Иллюстрация: Эльдос Фазылбеков / «Газета.uz»
Сухая смерть
Как умирают онкологические больные в Узбекистане и почему государство обязано поддержать их жизнь
Рак в Узбекистане — приговор на потусторонние муки. Он обнажает язвы общества, медицины, государства и семьи. Залечить их поможет открытие хосписа, но оно переносится четыре года. Что терпят больные и их близкие и как государству на этом фоне обрести человеческое лицо — в репортаже Сабины Бакаевой.
Преисподняя
Утром 27 июля 2005 года со мной познакомилась смерть. Опухоль в лёгком моего папы достигла таких размеров, что под её давлением разорвалась аорта — крупнейший сосуд в организме человека. Нам, его детям, было от 7 до 11 лет, и мы видели немыслимое. Кровь, что текла в его жилах, с бешеным напором вырвалась через рот. Агония отбивалась в нём дробью как на эшафоте. Зрачки метались в немом безумии. Потом он упал, разделившись на кровь и обескровленное тело, и мы закрыли ему глаза.
До этого утра папа болел два года. С год он жил без голоса — только хрипел. Худой и жёлтый, он бродил иногда по комнатам или смотрел в небо, лежа на белом, как кость, стволе погибшего платана, и сипел от боли. «Если бы я мог кричать, я бы выл и лез на стенку», — говорил он моей маме, когда за хороший внешний вид ему отменили морфин. Затем рецепт восстановили: всего две ампулы в день — как и раньше. Каждой хватало на два часа. В остальное время он терпел и глотал круглые таблетки «Баралгина» — изумрудными блистерами был усыпан весь дом.
Папа запрещал маме плакать, и она носила в себе весь ужас его приближающегося конца. Иногда он так злился на краткосрочность своей жизни, что одаривал нас едким словцом. Кремниевые врачи в онкологических центрах винили его за депрессию, маму — за плохой уход. Знахари обещали исцеление, прописывая мясо рептилий и осточертевший постный стол, за которым он встретил свою мучительную смерть.
В попытках забыть сцены этой двухлетней преисподней, я напрочь стёрла воспоминания о своём родителе. Но то, от чего бежала, похоронить, разумеется, не смогла. Потому мне уже 20 лет любопытно, может ли быть так, чтобы люди, несущие бремя рака, хранили радостные воспоминания о скончавшихся родных и не видели немыслимое, ведь забыть его не сумел бы никто.
До этого утра папа болел два года. С год он жил без голоса — только хрипел. Худой и жёлтый, он бродил иногда по комнатам или смотрел в небо, лежа на белом, как кость, стволе погибшего платана, и сипел от боли. «Если бы я мог кричать, я бы выл и лез на стенку», — говорил он моей маме, когда за хороший внешний вид ему отменили морфин. Затем рецепт восстановили: всего две ампулы в день — как и раньше. Каждой хватало на два часа. В остальное время он терпел и глотал круглые таблетки «Баралгина» — изумрудными блистерами был усыпан весь дом.
Папа запрещал маме плакать, и она носила в себе весь ужас его приближающегося конца. Иногда он так злился на краткосрочность своей жизни, что одаривал нас едким словцом. Кремниевые врачи в онкологических центрах винили его за депрессию, маму — за плохой уход. Знахари обещали исцеление, прописывая мясо рептилий и осточертевший постный стол, за которым он встретил свою мучительную смерть.
В попытках забыть сцены этой двухлетней преисподней, я напрочь стёрла воспоминания о своём родителе. Но то, от чего бежала, похоронить, разумеется, не смогла. Потому мне уже 20 лет любопытно, может ли быть так, чтобы люди, несущие бремя рака, хранили радостные воспоминания о скончавшихся родных и не видели немыслимое, ведь забыть его не сумел бы никто.
реклама
реклама
Дело времени
В 2022 году в Узбекистане от рака умерло почти 14 тысяч человек. По итогам года на учёте состояло более 126 тысяч онкобольных, 4000 из них — дети. Цифры эти, по словам директора Республиканского центра онкологии и радиологии Мирзаголиба Тилляшайхова, будут расти. Поскольку продолжительность жизни человека увеличивается, медицина развивается, а натиск урбанизации и экологических проблем нарастает, сердечно-сосудистые патологии уступят лидерство раку.
- «Люди будут умирать от него, потому что будут долго жить. А до рака нужно только дожить», — говорит Мирзаголиб Тилляшайхов.
Надежду на перемены в отечественной системе онкологической службы сохраняет принятое в 2017 году постановление президента о её развитии. Одна из ключевых статей этого документа предполагает создание хосписов и отделений паллиативной помощи.

Директор Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии Мирзаголиб Тилляшайхов.
В понимании соотечественников хоспис — место сродни плохому дому престарелых, куда родственники онкобольных сдают своих близких, чтобы избавить себя от мук ракового опыта. На самом же деле хосписы оказывают базовые услуги тем, у кого уже нет шанса выкарабкаться: уход, обезболивание и обучение родственников этим навыкам, психологическая поддержка больных и семьи. При этом выбор места кончины всегда остаётся за умирающим.
- «Хоспис — это не слабость онкологической помощи. Это барометр ценности человеческой жизни в государстве, индикатор гуманности страны», — говорит директор Республиканского онкоцентра.
Открыть хоспис — мечта Яхъё Зияева, потомственного онколога и одного из разработчиков постановления о развитии онкослужбы. Идея живёт в его голове с 2008 года. В 2015-м он начал свою карьеру независимого врача. У него умирал каждый пятый пациент. Сначала он винил себя, но профессиональная литература и коллеги на многочисленных конференциях, зарубежных стажировках повторяли: таков рак. Надо гордиться тем, что удаётся вылечить четверых.

Яхъё Зияев с мамой Иноят Зияевой. Она работает в детском хосписе Taskin.
На одном из таких мероприятий Яхъё познакомился с отцом паллиативной помощи, профессором Стэнфордского университета Эриком Кракауэром.
- «И он говорит мне: организуйте сначала хоспис, потом можно дальше двигаться. Не совсем этично иметь супертехнологичные больницы, если те, кому не поможет даже такое лечение, должны умирать в муках», — вспоминает Яхъё.
На откровение профессора наложился личный опыт из практики самого Яхъё. 47-летняя пациентка с раком прямой кишки и областной пропиской так опостылела от боли, что вышла на проезжую часть — нередко единственный способ привлечь к себе внимание в нашем отечестве.
- «ДТП не случилось. Но она была готова броситься под машину, чтобы её забрала "скорая". Её отвезли в центр онкологии. И она сказала мне: "Яхъёжон, не думайте, что я нарочно. Мне очень стыдно. Но кроме вас, никто не поможет, а я больше терпеть не могу". Несколько дней её держали, разговаривали с руководством, думали, как решить проблему, если нет прописки. Я мог бы сквозь пальцы посмотреть: обезболить и выписать. Но боль бы вернулась. Мы провозились весь день, чтобы организовать устойчивую помощь, но я тогда подумал, что система не должна так работать».
По словам Яхъё Зияева, создание хосписа — очень дешёвое медицинское мероприятие для государства. В них нет ничего высокотехнологичного. Нужно лишь обучить медперсонал, организовать психологическую помощь всем — от медиков до родственников больных.
- «Нужны достаточные для беспрерывного обезболивания объёмы морфина, — а он очень дешёвый, — кусочек любви и компетенция».
реклама
реклама
Централизация рака
Друг, ученик и коллега Яхъё, онколог Рустам Нарбаев заведует первым в Узбекистане детским хосписом Taskin. Недавно он провёл две презентации своего учреждения в центральных районных поликлиниках Ташкента.

Рустам Нарбаев.
«Хостелда ишлайсизми? Хостелда ишлайсизми?» — спрашивали его медработники. Когда он объясняет, что такое хоспис, они интересуются, можно ли отправить в Taskin совершеннолетних больных и есть ли такое учреждение для взрослых. Помимо этого, Рустам каждый день отказывает одному-двоим родственникам возрастных пациентов. Сегодня он навещал пожилую женщину. Выписал ей необходимую дозировку морфина, которую она не сможет получить, потому что больше 21 ампулы в неделю взрослым никогда не выписывают. Эта же пациентка может получить только 14. Её дочь весь день выстаивает очереди за подписями обезболивания.
- «Я ребёнку делал по четыре ампулы каждые четыре часа. Это в основном в последние дни. Но для взрослого человека на терминальной стадии две ампулы в день — ничто», — говорит Рустам Нарбаев.
Яхъё Зияев поясняет, что при онкологии и некоторых других заболеваниях пациенты страдают от хронического болевого синдрома. В отличие от острой боли, например, головной, о которой можно забыть после таблетки «Тримола», купировать хроническую боль нужно уметь.
- «Препараты, снимающие острую боль, — нестероидные противовоспалительные средства. Их нельзя принимать больше 7-10 дней. При длительном применении они вызывают гастрит и язву желудка. А больным с хроническим болевым синдромом лекарства нужны всегда, — рассказывает Яхъё Зияев. — Поэтому золотым стандартом лечения хронического болевого синдрома является морфин. У него нет побочек, кроме запора, но если снять боль, можно вылечить и его — это легче».
Недавно Минздрав Узбекистана принял рекомендации по лечению хронического болевого синдрома у взрослых. Аналогичное пособие для детей было принято год назад. Но ни дети, ни взрослые онкобольные не могут получить адекватное обезболивание, потому что врачи не знают, как применять эти рекомендации, и работают по старым протоколам. Научить их гуманному обезболиванию могут в методологическом центре, которым должен стать ташкентский хоспис.

Рустам Нарбаев осматривает на дому 15-летнюю пациентку Азизу. Её не стало 26 сентября. Фотография сделана 14 августа.
На самом деле хосписы в Узбекистане есть. Межрегиональные учреждения работают в Самарканде и Хорезме, одно простаивает в Фергане. Здание ему построили, но финансирование на штат не выделили. Хорезмский хоспис работает аж с 2012 года. По словам Яхъё, учреждение на 20 коек построили в городе Ханка, недалеко от Ургенча. В те годы регион стал единственным, где был реализован пункт постановления правительства об организации хосписов при районных медицинских учреждениях.
- «Там работают реально самоотверженные люди. Но в то время он был как бы домом престарелых, куда принимали не только онкобольных, но и одиноких стариков, и бездомных. В 2017-2018 годах мы это изменили. Сейчас там 50 коек, построили дополнительное здание. Почти все занимают онкобольные, хотя в хосписах нуждаются не только они. Хосписы — это места для всех, кто болеет неизлечимой болезнью и всё равно умрёт от её последствий. Хосписы — это места для поддержки семей. Представьте семью, в которой есть лежачий пациент после инсульта. Он не может ухаживать за собой. Лежит, может быть, несколько лет, умеет только глотать и моргать. Как сложно семье ухаживать за одним этим человеком. Нет-нет ей нужна социальная передышка — передать уход за ним кому-то другому на 5-10 дней».
Самаркандский же хоспис открылся в июне. По словам Рустама Нарбаева, опыта оказания хосписной помощи у самаркандского медперсонала нет, поэтому медики так хотят пройти хотя бы недельное обучение в Taskin.
- «Они понимают, что такое хоспис, но не знают, как говорить про смерть, как и в какой дозировке назначать лекарства. В Хорезме хоспис работает как дом престарелых или что-то вроде этого — они сами не знают. У них же нет протоколов, их никто не обучил. В Самарканде директор — онколог Нодир Рахимов, прекрасный врач. Мы его три дня обучали. Это мало. Но чтобы они смогли пройти у нас стажировку, нужно финансирование: дорога, проживание, питание».
Сам Рустам заразился идеей открытия хосписа на одной из лекций Яхъё, когда ещё верил, что узбекистанцы ни за что не отдадут родных в хоспис. «Дай бог, откроем в Ташкенте», — убеждал Яхъё. Это был 2015-й. Рустам только вернулся из Штатов в родной Андижан, уверенный в поспешности этого решения. Он хотел уехать, но зачарованный философией гуманного доживания отправился учиться в Республиканский центр онкологии.
- «Ещё не было нового здания, это был мрак, — вспоминает Рустам. — Папа со мной пришёл. Он тоже врач, говорит: "Ты уверен, что хочешь сюда поступать? Давай я помогу с контрактом". Но я хотел именно сюда из-за хосписа».
Изначально его планировали открыть в 2019 году, но затянулось. Перенесли на год 2020-й. Пандемия скорректировала приоритеты системы здравоохранения. В это время друзья работали в инфекционной больнице «Зангиата-2». Рустам — заведующим отделения 6А, чей пример управления распространили на всю больницу. Яхъё — главным статистом. Обоих ковид научил управлению.
После пандемии врачи вернулись в онкологию, чтобы применить ковидные навыки менеджмента и всё-таки постараться создать хоспис для взрослых. Друзья нашли единомышленников в лице фонда Ezgu Amal, Минздрава, посольства Израиля и смогли открыть первый в стране детский хоспис — место, где человеческое право — жить без умерщвляющей боли — действительно соблюдается. Рустам знал, что возглавит учреждение.
До сегодняшнего дня в Taskin применяют ампульный морфин. Чтобы хроническая боль не возвращалась, концентрацию препарата держат на одном уровне — колют его по часам, иногда месяцами. В Израиле, где Рустам проходил повышение квалификации, морфин выпускают в форме назального спрея или капель, чтобы многомесячное обезболивание не ассоциировалось с болью.
До сегодняшнего дня в Taskin применяют ампульный морфин. Чтобы хроническая боль не возвращалась, концентрацию препарата держат на одном уровне — колют его по часам, иногда месяцами. В Израиле, где Рустам проходил повышение квалификации, морфин выпускают в форме назального спрея или капель, чтобы многомесячное обезболивание не ассоциировалось с болью.
- «Заходишь к трёхлетнему малышу в палату, а он уже руку протягивает. На это очень больно смотреть», — говорит Рустам.
В 2022 году ему и Яхъё удалось, наконец, завершить регистрацию таблетированного морфина пролонгированного действия в трёх разных дозировках. Для лечения хронического болевого синдрома больным нужно принимать его раз в 12 часов.
- «Мы дали заказ на покупку таблетированного морфина для "Таскина". Но фарминдустрия — это бизнес, а морфин — очень недорогой препарат. Объёмы, необходимые детскому хоспису, фармкомпаниям просто невыгодно поставлять. Минимальный объём, который нам готовы поставить, покроет нужды "Таскина" на годы вперёд», — говорит Яхъё Зияев.
- «Почему не заказать его для других хосписов и центров онкологии, если на учёте состоят 126 тысяч больных?» — спрашиваю я.
- «Пока хоспис в Ташкенте не достроится, у нас нет инструментов, чтобы подойти к этому комплексно и институционально».
- «Почему именно здесь должен открыться хоспис, чтобы у вас были эти инструменты?»
- «Потому что хоспис в Ташкенте станет методологическим центром развития хосписной и паллиативной помощи. После открытия мы будем проводить семинары, учить назначать морфин, рассказывать, что поменяли нормативно-правовую базу. Пока нет единого органа, который бы всё это делал».
- «Почему хосписы в Самарканде и Хорезме не могут стать методологическими центрами, чтобы вы работали по обновлённым протоколам уже сейчас? Почему нужно ждать, чтобы облегчить жизнь следующей порции неизлечимо больных, если они есть сейчас?»
- «Мы думали сделать центром один из региональных хосписов, но организационно это так сложно, что легче дождаться, когда хоспис "вот-вот" достроят в Ташкенте. Если мы сейчас же перейдем на таблетированный морфин, я сомневаюсь, что, сидя в Самарканде или Хорезме, можно будет по всему Узбекистану внедрить обновлённую систему. Опыт Ташкента будет распространяться на всю страну. А иначе мы сломаем сейчас рабочую систему с ампульным морфином, но построить новую пока не сможем. И именно в этом промежутке люди будут очень страдать».
Яхъё Зияев называет ситуацию издержкой централизованного управления, традицией держать центр под боком регулятора. Конечно, на первых ступенях реализации любой реформы очень важно вертикальное внедрение. Но честно ли искать оправдания мытарствам пациентов в отсутствии центра и не достраивать этот самый центр четыре года?
реклама
реклама
Аэродром
Директор Республиканского онкоцентра Мирзаголиб Тилляшайхов говорит, что при разработке постановления президента онкологи в первую очередь хотели открыть хоспис для взрослых. В 2022 году жертвами рака в Узбекистане стали 330 детей и 13,5 тысяч возрастных пациентов. За 14 месяцев существования Taskin максимальное число пациентов, одновременно находившихся в учреждении, составляло 17 детей.
С хосписом для взрослых такого не будет. Во-первых, Taskin специализируется на детском раке, а хоспис для взрослых будет принимать всех, кто нуждается в хосписной помощи. Во-вторых, хосписных пациентов среди взрослых намного больше, поэтому Яхъё Зияев ожидает аншлаг.
С хосписом для взрослых такого не будет. Во-первых, Taskin специализируется на детском раке, а хоспис для взрослых будет принимать всех, кто нуждается в хосписной помощи. Во-вторых, хосписных пациентов среди взрослых намного больше, поэтому Яхъё Зияев ожидает аншлаг.

Непропорциональное распространение детского и взрослого рака — не единственная причина свободных коек в Taskin. Помимо стереотипного отношения к хосписам как к домам престарелых и инвалидов, есть ещё и неосведомлённость людей о существовании такого места.
По словам Рустама Нарбаева, не умея сообщать главное, врачи зачастую отправляют в Taskin на дальнейшее лечение. Поначалу пациентам и их родителям страшно: они приезжают куда-то за город, заходят в большие ворота, видят фактически пустырь. Перед честным разговором требуется несколько дней адаптации, чтобы осознать: здесь не больно, здесь красиво, здесь живёт добро. Нередко родители злятся на правду, но в конце концов всегда благодарят: кто-то должен был сказать её вместо внутреннего голоса, который они заставили заткнуться, чтобы не сойти с ума.
Разговор этот всегда происходит с одинаковым набором данных: Рустам, психолог, соцработник, родитель, стакан воды и коробка салфеток. Но сложнее всего сказать об этом ребёнку старше 10 лет, потому что малыши «уснут, когда мама будет рядом, и главное — это не больно».
По словам Рустама Нарбаева, не умея сообщать главное, врачи зачастую отправляют в Taskin на дальнейшее лечение. Поначалу пациентам и их родителям страшно: они приезжают куда-то за город, заходят в большие ворота, видят фактически пустырь. Перед честным разговором требуется несколько дней адаптации, чтобы осознать: здесь не больно, здесь красиво, здесь живёт добро. Нередко родители злятся на правду, но в конце концов всегда благодарят: кто-то должен был сказать её вместо внутреннего голоса, который они заставили заткнуться, чтобы не сойти с ума.
Разговор этот всегда происходит с одинаковым набором данных: Рустам, психолог, соцработник, родитель, стакан воды и коробка салфеток. Но сложнее всего сказать об этом ребёнку старше 10 лет, потому что малыши «уснут, когда мама будет рядом, и главное — это не больно».
- «Мы никогда не говорим ребёнку, что его скоро не станет. Обычно мы интересуемся, есть ли вопросы. И тогда они спрашивают сами. Например: "Я выздоровлю?". Обычно дети спрашивают по какой-то причине. Поэтому мы узнаём, почему они задают такой вопрос. Для ребёнка это — явление абстрактное. Он спрашивает, чтобы что-то успеть: увидеть звезду эстрады, поплавать в бассейне. Главное, чтобы у него не было боли и чтобы он мог ходить. Ребёнку очень важно ходить. Так это наступает психологически безболезненно, ведь он может играть. А если он лежит, всем очень тяжело и нам — тоже, потому что мы не можем помочь. Только обезболить».
По словам Рустама Нарбаева, онкобольные дети приходят и уходят из хосписа волнами. Тяжелейшими месяцами были июль и конец сентября, когда за несколько дней не стало 7-8 детей. В Taskin это противоестественное явление называют «улетели». В июле о прогнозах на жизнь Рустама спрашивал почти совершеннолетний пациент. Онколог спросил, почему он интересуется.
- «Он сказал: "А я жить хочу. Что вообще никакого шанса нет?". Я не знал, что сказать, думал, что умру, что сердце остановится. Оно остановилось. Я думал, больше не запустится… Извините», — говорит Рустам. Я слышу, как за ним закрывается дверь.
Недавно он рассказывал о проблемах детского рака в подкасте Plossla. В тот день улетел Зафарбек. 18-летний пациент, которого Рустам оставил в виде исключения. В день записи подкаста парень очень просил врача остаться, не уходить, поговорить. Звонил: «Ака, вы едете? Когда будете?»
Вечером онколог полз в хоспис сквозь пробки. Он вошёл в палату. Зафарбек едва поднял голову. Обрадовался. Постарался обнять долгожданного врача. Врач обнял пациента. Через мгновение мальчик сполз на пол, так и не расцепив объятия в ногах онколога. Последними его словами были «Рустам ака».
Вечером онколог полз в хоспис сквозь пробки. Он вошёл в палату. Зафарбек едва поднял голову. Обрадовался. Постарался обнять долгожданного врача. Врач обнял пациента. Через мгновение мальчик сполз на пол, так и не расцепив объятия в ногах онколога. Последними его словами были «Рустам ака».
- «Люди всегда чувствуют, что скоро».
- «Рустам, как вы держитесь?»
- «Я вообще думал, что в декабре уволюсь, но работа нравится».
- «Людям сложно понять, что мы делаем эту работу, потому что нам от неё хорошо. Нам не верят, что это может нравиться. "Это же возня, неблагодарная работа". Но благодарность мы получаем от того, что делаем хорошее дело. Мы благодарим себя сами — это чувство бесценно».
Зафарбек был не первым пациентом, встретившим совершеннолетие в Taskin. По закону Рустам не имеет права занимать койки возрастными пациентами. Но в силу отсутствия хосписа для взрослых вчерашним детям негде найти аэродром, откуда они смогут улететь безболезненно. У некоторых из них нет даже дома.
В каждом случае Рустам пишет письмо в Министерство здравоохранения с просьбой оставить пациента в виде исключения. Пока не отказывают, с благодарностью отмечает онколог.
В каждом случае Рустам пишет письмо в Министерство здравоохранения с просьбой оставить пациента в виде исключения. Пока не отказывают, с благодарностью отмечает онколог.
- «Даже если не будут разрешать, я оставлю. Я не могу не оставить. Что мне делать? Что мне сделают? — отчеканивает он. — Ну штраф выпишут. Если есть свободная койка, она обходится государству только в оклад медперсонала. Ну лишат нас части этого оклада. Всё равно выживаемой зарплату делает Ezgu Amal. Транспорт пациентам оплачивает Яндекс. Еду детям, родителям и нам оплачивает Ezgu Amal».
По словам Рустама, благотворительный фонд выплачивает медработникам 100% надбавку к зарплате. Иначе Taskin превратится в обычное медучреждение, где врачи для собственного выживания вынуждены тянуть деньги с пациентов, потому что государство никак не решится поднять зарплаты строителям будущего — докторам и педагогам.
- «Принцип любого хосписа — бесплатно помогать людям. Потому что они все нуждаются. Может быть, не все — в деньгах. Но в психологической и медицинской помощи — все. А у нуждающихся просить деньги — низко».
Недавно «Твиттер» сотрясли слухи о том, что медработники Taskin планируют уволиться из-за урезания зарплат, и хоспис может закрыться. Рустам Нарбаев поясняет, что детский хоспис — государственное учреждение. Он продолжит работать. Проблема в том, что у фонда Ezgu Amal закончилась крупное спонсорское пожертвование — 500 млн сумов, которые в феврале 2023 года для Taskin передала нефтегазовая компания Saneg.
Эпизодические пожертвования от физлиц, конечно, поступают регулярно. Однако, по словам Рустама, этого недостаточно. Штат соцработника и психолога в Taskin есть только благодаря Ezgu Amal. Мест для соцработников нет во всей стране. Психологов нет в государственных медучреждениях. Психолог детского хосписа Камилла Турахаджаева сейчас на добровольных началах консультирует пациентов городской онкологии, Детского национального центра, Детской гематологии и онкологии, потому что гражданам некуда пойти за психологической поддержкой, потому что до хосписа они доходят не по-человечески измотанными от страданий.
Эпизодические пожертвования от физлиц, конечно, поступают регулярно. Однако, по словам Рустама, этого недостаточно. Штат соцработника и психолога в Taskin есть только благодаря Ezgu Amal. Мест для соцработников нет во всей стране. Психологов нет в государственных медучреждениях. Психолог детского хосписа Камилла Турахаджаева сейчас на добровольных началах консультирует пациентов городской онкологии, Детского национального центра, Детской гематологии и онкологии, потому что гражданам некуда пойти за психологической поддержкой, потому что до хосписа они доходят не по-человечески измотанными от страданий.
- «У нас санитар получает 4 млн, медсёстры — 5, врачи — 7. Я получаю 7,5 млн, потому что работаю по воскресеньям. Без надбавки будем получать в два раза меньше. У нас вся бухгалтерия открытая. Сотрудники тоже умеют считать. Когда они видят, что деньги кончаются, они тревожатся: "Рустам Яхъяевич, что будет?" Я им объясняю, что фонд не прекратит поддержку. Но сам понимаю: Ezgu amal будет вынужден урезать помощь больным детям, на чьё лечение он собирает деньги. Я бы не хотел, чтобы это произошло. Поэтому нам нужен постоянный спонсор. Нам не надо много денег. Хотя бы 5 тысяч долларов в месяц. Для крупных компаний это зарплата одного топ-менеджера».
По словам Мирзаголиба Тилляшайхова, во всем мире хосписы существуют на средства благотворительных фондов. На почти 70 миллионное население Великобритании королевство насчитывает более 200 хосписов. Большинство из них существуют на добровольном финансировании физических и юридических лиц.
Объясняется это тем, что при государственном управлении очень сложно выделять средства на последние желания пациентов, говорит Яхъё Зияев. Государство может покрыть стоимость лекарств, зарплаты врачей, оборудование. Но если человек напоследок хочет увидеть Ичан-Калу, бюрократической машине государства сложно организовать это быстро и прозрачно.
Объясняется это тем, что при государственном управлении очень сложно выделять средства на последние желания пациентов, говорит Яхъё Зияев. Государство может покрыть стоимость лекарств, зарплаты врачей, оборудование. Но если человек напоследок хочет увидеть Ичан-Калу, бюрократической машине государства сложно организовать это быстро и прозрачно.

В Узбекистане благотворительность развита слабо, поэтому в региональных хосписах для взрослых последние желания пациентов исполнить невозможно. Однако по словам Рустама Нарбаева, исполнение желаний в мире традиционно для детских хосписов. Мечты совершеннолетних онкобольных сбываются в редких случаях, если у хосписов есть лишние деньги.
- «В журнале "Такие дела" я как-то читала, что люди охотно выделяют деньги на поддержку детей, затем животных. Менее охотно на помощь старикам и совсем слабо — больным трудоспособного возраста. Почему так?».
- «У нас такая же ситуация, — говорит Рустам Нарбаев. — Это человеческая психология. Во всём мире взрослым тяжело собрать помощь. Детям, животным и старикам собрать легче, потому что в них видят беспомощных. Слёзы беспомощных продаются лучше, как бы кощунственно это ни звучало».
реклама
реклама
Онкология души
Паллиативная помощь не есть хосписная. В обеих нуждаются пациенты с разными заболеваниями, не только онкологическими. Первая может оказываться уже в начале постановки диагноза. Необязательно он будет смертельным — рак ведь тоже лечится. Паллиативная помощь предполагает борьбу с симптомами и психологическую поддержку, которой в больницах нашей страны нет совсем.
В паллиативном отделении 14 онкологических центров насчитывается 200 коек — только для взрослых. Но по расчётным данным в службе ежегодно нуждаются около 8000 совершеннолетних больных — речь только об онкопациентах, отмечает директор Республиканского онкоцентра. Здесь они получают лучевую и химиотерапию. Паллиативных же отделений в медучреждениях другого профиля, в том числе детских, нет совсем.
Когда болезнь вылечить не получилось, на помощь приходят хосписы. ДЦП, СПИД, инсульты, рак — короткий список их постояльцев. Помимо обезболивания всем хосписным пациентам сознательного возраста очень важно знать, что врачи, психологи, близкие — с ними.
В паллиативном отделении 14 онкологических центров насчитывается 200 коек — только для взрослых. Но по расчётным данным в службе ежегодно нуждаются около 8000 совершеннолетних больных — речь только об онкопациентах, отмечает директор Республиканского онкоцентра. Здесь они получают лучевую и химиотерапию. Паллиативных же отделений в медучреждениях другого профиля, в том числе детских, нет совсем.
Когда болезнь вылечить не получилось, на помощь приходят хосписы. ДЦП, СПИД, инсульты, рак — короткий список их постояльцев. Помимо обезболивания всем хосписным пациентам сознательного возраста очень важно знать, что врачи, психологи, близкие — с ними.
- «Пациенты очень-очень боятся одиночества, — рассказывает Рустам Нарбаев. — Это их самый большой страх. "Пусть когда я буду умирать, мама или медсестра, или Рустам ака будут рядом". Выбор свидетеля своей смерти — вещь индивидуальная. И ещё им очень важно быть ценными, видеть, что они сохраняют свою человеческую ценность».
- «Почему вы это говорите? Обычно это не так?»
- «Нет, родители и родственники тоже пытаются отстраниться. Это самозащита человека. Врачи пытаются отстраниться. У меня такое тоже бывает. Пациенту это очень обидно. Им хочется всё ещё быть нужными. Поэтому Зафарбек так просил: "Ака, ёнимда буп колинг, кетманг"».
Психолог Taskin Камилла Тураходжаева, бесплатно консультирующая пациентов нескольких медучреждений, рассказывает, что после выписки о пациенте забывают, его больше никто не навещает. Если он одинокий, он умрёт в одиночестве, страхе и боли, потому что даже обезболить будет некому.
- «Врачам очень важно работать с психологом, не выгорать, — поясняет Рустам. — У нас очень много прекрасных врачей, у которых не осталось сострадания, — 100% всех онкологов. У меня был недавно один резидент (врач, работающий под надзором наставника — ред.). Он говорит: "Нас в институте учили быть жёсткими, не сближаться с пациентами, быть холодными, чтобы защитить себя". Никто не учит нас состраданию, но и не говорит, что обратная сторона чёрствости — всегда страдание, поэтому самые чёрные алкоголики — врачи».
Онкологи не всегда умеют противостоять мольбам родственников, соглашаются навестить гаснущих пациентов на дому, рассказывает Рустам. Домочадцы изнуренно наблюдают, как смерть отвоёвывает право на тела их родных, и потому ждут от врача хоть какую-то помощь.
- «По сути таких пациентов можно только обезболить, убрать тошноту. Но до последнего стараются вылечить. Назначают капельницы и антибиотики. Утвердительно отвечают на вопрос: "Вы можете сделать химию?" Я ещё не видел, чтобы в этом был смысл, — говорит Рустам. — От этого жизнь может даже укоротиться».
- «Может быть, врачи видят, что родители от них чего-то ждут, и, не умея говорить о бессмысленности, делают назначение?»
- «Верно. Но они не всегда делают это бесплатно, — признаёт онколог. — Трудно прийти и сказать, что ничего не сделаешь, если берёшь деньги. В хосписной помощи мы говорим, что лучшая смерть — сухая смерть, "неперекапанная". У нас принято в любой ситуации назначать капельницу. Но всё, что капаешь, должно выйти. И тогда агония пациента длится долго, он медленно и некрасиво умирает»
- «Если у пациента проблемы с почками, то жидкость накапливается в лёгких, брюшной полости. Представьте, что проблемы с дыханием становятся довеском ракового умирания, потому что в лёгких жидкость. Если её выкачать, то больной умрёт от резкого падения давления. Не выкачать — не сможет дышать. Не капай в конце жизни! Пусть смерть будет сухой».
Кроме умения признать своё бессилие, быть сострадательным и работать с психологом, Taskin научил Рустама и Яхъё ценить время, стараться выполнять обещания, уделять семье так много времени, как только возможно, любить человека просто так, ценить ту единственную жизнь, которую мы живём, не сдаваться.
- «Почему всему этому вы научились именно в хосписе, если давно работаете в онкологии?»
- «Потому что в онкологии мы не видим умирающих пациентов. Как они корчатся от боли. Умирающий от рака человек — это не проблема онкологов. В детской же онкологии не обезболивают вовсе — они вообще не используют морфин».
- «Процесс назначения морфина очень неудобный: врач пишет рецепт в историю болезни, потом в "тетрадь морфина". Каждый пациент должен сдать ему все использованные ампулы. У каждой ампулы свой серийный номер. Врач сверяет эти номера, затем сдаёт ответственному лицу на хранение. Этот человек раз в квартал созывает комиссию для утилизации ампул. В её состав входит сотрудник МВД. Любая нестыковка — ответственность лечащего врача, который сделал это назначение».
Помимо этого, люди боятся морфина. По словам Рустама, даже в понимании врачей морфин — наркотик, не лекарство. К нему относятся как к героину. И внушают пациентам, что его назначают только на последней стадии. А когда назначают, то непременно недостаточно, несмотря на принятые Минздравом рекомендации.
- «И когда ребёнка отправляют к нам с дикими болями, родители отказываются от морфина: "Он станет наркоманом". Боль сокращает жизнь. У нас был мальчик с нейролейкозом. Он страдал сильнейшими головными болями. Поступил к нам с разбитым лбом, потому что бился головой об стену из-за боли. У нас он прожил три месяца, и только потому, что мы его обезболивали морфином, ничто другое не помогло бы. Родители были счастливы. Без морфина жизнь его была бы очень короткой. Но бывает, четырёхлетний ребенок говорит: "Только не делайте морфин!" Откуда он знает? — раздаржённо вопрошает Рустам. — Про это может сказать только врач!».
Зато знахарям верят безропотно. Честность традиционной медицины не убивает надежду на чудо, которое можно купить у шарлатанов. Правда, целительная сила их микстур, порошков и мазей обладает баснословно высокой ценой. Мать мальчика с нейролейкозом приобрела у таких мошенников коричневое снадобье в шприце. Курс обошёлся ей в 2300 долларов аванса из 5500 запрошенных. Деньги ей удалось вернуть благодаря медсестре, которая увидела, как мама делает сыну внутримышечную инъекцию. Она сообщила об этом заведующему.
- «Я спокойно подошёл, спросил, что это. Она объяснила, что это «какое-то лекарство» — последняя надежда на исцеление. Я попросил найти продавцов, чтобы поговорить с ними. Пришли два человека в тюбетейках, с бородами. Мы поговорили, я понял, что они не врачи. Признались, что фармацевты и выпускают БАДы. В инструкции было написано, что лечит синдром Дауна, в составе указано золото. Я разозлился, пригрозил милицией и потребовал вернуть семье деньги».
Рустам Нарбаев добавляет, что в Taskin не против БАДов, если они не вредят и если ребёнок действительно хочет их принимать.
- «Это может работать как плацебо, и родители не будут потом винить себя в том, что не попробовали всё. Но иной раз они стоят слишком дорого, и никто не объясняет родителям, что это бесполезно, и лучше потратить эти деньги хотя бы на последнее желание ребёнка».
реклама
реклама
Дом милосердия
К сожалению, родители не всегда могут принимать решения касательно своих несовершеннолетних детей. Чугунный вес статуса свекровей в истории пациентов Taskin нередко обнажает язвы семей, общества и культуры.
- «Если в целом охарактеризовать, жизнь узбека не принадлежит ему, забота о нём лежит не на родителях. Имя, школу, одежду, институт, партнёров по жизни и даже место кончины выбирают не родители, а свекровь, — говорит Рустам Нарбаев. — Одна не разрешала ребёнку делать УЗИ, а когда выявили новообразование, не позволила что-то предпринять дальше, потому что сама медсестра и "знает лучше". Другие забирают у молодой семьи весь заработок и не дают их же деньги на поездку к врачу. За всё время только одна такая бабушка раскаялась в отложенной диагностике: "Это из-за меня, потому что полгода тянули, вовремя не пошли. Только не говорите детям, что у внука рак". А как я не скажу?».
Личные наблюдения онколога показывают, что 70-80% пациентов Taskin из неблагополучных семей. В остальных семьях конфликты начинаются на фоне диагноза. По словам онколога, от болезни детей очень страдают отцы. Сама культура стыдит мужчин за слёзы и учит их бесстрастно реагировать на любое жизненное событие, как бы оно ни вспарывало им сердце.

- «С одной стороны, муж считает, что единолично должен принимать решения, поэтому на этапе лечения он не советуется с женой. Но потом их сверлят жёны: "Ты не повёз лечиться за рубеж. Ты не согласился отвезти к хорошему врачу. Ты не обратился в больницу вовремя. Ты не сделал КТ". В конце концов, он думает, что не спас своего ребёнка, хотя всё было в его руках. Если бы они разделяли ответственность за эти решения, им было бы гораздо легче, особенно после кончины ребёнка».
«И ещё эта культура "терпи", — добавляет Рустам. — Боль адская, ребёнок кричит, ребёнок больше не может кричать, но родители говорят: "Терпи". Как можно терпеть? Как можно принимать эту реальность?»
Яхъё Зияев поясняет, что, отказываясь от морфина или не имея к нему доступа, пациенты получают те самые нестероидные противовоспалительные средства, которые принимают при острой боли. Кроме побочных действий при длительном приёме, у них есть «потолок».
- «Если сделать две ампулы "Кетонала", эффект будет как от одной. У морфина такого нет: делаете две ампулы, эффект обезболивания удваивается. Поэтому по протоколам лечения предельной дозировки морфина нет. Его делают столько, сколько нужно, но единого документа об этом нет, поэтому в том числе его выписывают мало».
При этом привыкание к морфину или эйфории от него у пациентов с хроническим болевым синдромом не возникает. Он только купирует боль.
- «Для здоровых людей он, конечно, наркотик. Но мы считаем, что наркоман обязательно найдёт дозу, — объясняет Рустам. — Ограничивать морфин для онкобольных из страха, что он попадёт в руки зависимых, — это глупо, странно, негуманно. Потому что жизнь без боли — это право».
Помимо морфина, справиться с болью детям помогает искусство. Насколько Рустам не верил в психологию и её методы до Taskin и насколько поразился терапевтической мощи прекрасного в Израиле. Там арт-терапия является отдельной специальностью в вузах, и учатся ей полные четыре года.
Чаще всего пациенты рисуют, создают креативные композиции, добро и по-детски потешаются над врачами. Простота медработников и их незацикленность на себе позволяют детям, скованным культурными запретами и болезнью, баловаться соответственно возрасту. Несколько раз в неделю в хосписе проходят мастер-классы. Каждую пятницу с пациентами лепит известный керамист Рахимов. Поделки сушатся в комнате арт-терапии. Рисунки — в кабинете соцработника. Работы планируют выставить на специальный благотворительный аукцион.
Портреты улетевших художников собраны в другой комнате — памяти. С каждым из них Рустам переживал все пять стадий принятия. В нём они перетекают друг в друга в ускоренном режиме. Проработка каждой утраты с психологом позволяет ему не задубеть душой. Сострадание медработников хосписа находит отклик и в сердцах родителей. Они так слёзно благодарят их за милосердие, что даже когда повод возвращаться в Taskin улетает, осиротевшие мамы и папы навещают хоспис с пловом, сладостями, гостинцами. Некоторые даже становятся спонсорами: привозят инвалидные коляски, перечисляют деньги, не забывают поздравлять с праздниками. Любовь, сострадание и радость жизни, сосредоточенные в таком, казалось бы, неподходящем для этого месте, делают Taskin местом паломничества, где люди, пронёсшие на себе бремя рака, находят освободительное утешение.
реклама
реклама
Сухая смерть
Когда ташкентский хоспис однажды откроет свои двери, люди будут называть его красивым словом «лимонарий» — территория находится вдоль дороги, которая ведет к лимонным садам по пути в посёлок Улугбек. Площадь участка составляет 5,2 га, из которых 2 га занимает роща. Шелест листьев, пение птиц и тишина — важнейшие параметры проектирования хосписов.
- «Если больницы отделяют пациентов от родственников, мы помогаем людям сблизиться с родными. Для этого нужно социальное пространство», — говорит Яхъё Зияев.
Поиски места начались в 2018 году. Несколько зданий внутри города, в том числе частные особняки, пионеры паллиативной помощи Узбекистана твёрдо отвергли. С тех пор строительство велось в час по чайной ложке. Последние шевеления в строительстве были в июле 2023-го. Тогда закрыли крышу, закончили отделку и обещали завершить работы в сентябре.
- «На сентябрь это не похоже, — отмечал Яхъё 14 августа, когда мы осматривали "лимонарий". — Отсутствие хосписа дорого обходится государству. Хосписные пациенты приходят в республиканский и областные центры онкологии и занимают койки тех, кого ещё можно вылечить. Я не ставлю приоритет пациентов с шансами на выживание выше хосписных, но если разделять лечебные центры от хосписов, мы увеличим эффективность лечения. Онкологи смогут концентрироваться на спасении жизней, а паллиативщики — на облегчении кончины.
Но хорошо, что начали слушать специалистов. Я спрашивал, куда пойдёт канализация. Строители показывали: туда. А там рельеф идёт вверх. Они на это ответили: "По проекту так". Я предложил поменять его. Тянуть её вниз было чуть дороже, требовалось больше материала. Мы отстояли у депутатов дополнительное финансирование и даже солнечные батареи с хорошей системой кондиционирования. "В Узбекистане это возможно?", — думали мы с Рустамом». - «Как вы додумались спросить о канализации? Вы же врач. Это вообще вне вашей компетенции».
- «Да. Но кто-то же должен этим заниматься. Мы уговаривали строителей установить нам лифт. Они удивлялись, зачем лифт в двухэтажном здании. И неважно, что хоспис — по сути своей медучреждение. Что если на втором этаже кто-то умер, его нужно спускать вниз. Они согласились. Я попросил у них балкончик, чтобы наши пациенты могли глядеть на ипподром и лошадей. Потом попросил фонтанчик».
- «Как за столько лет ожидания в вас не потух огонь?»
- «Честно говоря, иногда хочется всё бросить. Но я вижу результаты нашего труда. Мы так мучались с этим постановлением, но приняли же его, потихоньку реализовываем. Мы видели, как машины для лучевой терапии привезли. До 2017 года их в стране было 5 штук, сейчас — 30. Во время ковида я видел, как прислушиваются к нашим хотелкам. Как позволили в Taskin держать собаку и кошку. Вы можете представить животное в любом другом медучерждении Узбекистана? Мы с 2015 года хотели канцрегистр, и нам дали на него деньги».
- «Что это?»
- «Это реестр онкобольных — вещь стратегическая. Для понимания, у вас зарегистрированы все больные. Во всей стране одинаковые стандарты лечения и диагностики. Но в одном регионе выживаемость пациентов, скажем, с раком прямой кишки второй стадии меньше, чем во всей стране. Почему? Узнать причину — задача реестра. Там может быть человеческий фактор, экологический или общее состояние здоровья населения. Мы потихоньку отходим от карательного метода в медицине, когда за ошибку просто наказывают, но не пытаются исследовать причину. Мы понимаем, что не решим проблему, если уволим главу облздрава. На такую вещь выделили 10 млрд сумов».
- «Это считается много?»
- «Я никогда не думал, что для хотелок врачей выделят такие деньги».
- «Это не хотелки врачей, это национальная система здравоохранения. Две "Зангиаты" стоили бюджету намного больше, но это безопасность нации. Вы делаете национальную систему, и это считается дорого?»
- «Восемь лет назад такие деньги не выделяли».
- «Почему к вам стали прислушиваться?»
- «В целом страна становится инклюзивной. Взять хотя бы то, что начали говорить о домашнем насилии или открыли конвертацию».
- «Вам на это возразят, что вы радуетесь воздуху».
- «Но его же не было. Мы ругаемся, что у нас многого нет, что многое не работает, многое неправильно. Хорошо хотя бы то, что мы можем показывать своё недовольство. Раньше на любую критику отвечали бы, что нам все завидуют, и пока все подтирались фиговым листком, у нас был Аль-Хорезми. Все эти перемены мотивируют. Мы могли бы уехать и жить намного лучше на том, что кто-то построил для своих граждан теми же потом и кровью, которыми мы строим для узбекистанцев».
- «Должно ли вообще быть легко?»
- «Хотелось бы».
- «Мне иногда кажется, что если бы всё очень легко давалось, то люди легко бы проносили разные идеи. И ещё идеи не созревали бы, как они созревают в ходе борьбы».
- «Может быть. Нам ведь с Рустамом пришлось изучить ГОСТы и СанПиНы по организации хосписов. Мы сидели с архитектором, чертили "лимонарий". Теперь о хосписах мы знаем почти всё — от строительства до психологической помощи».
В итоге в проекте «лимонария» получились два блока. Один одноэтажный с поликлиникой и амбулаторной службой. Второй — двухэтажный. Внизу молельная, комната для омовения тел скончавшихся и холодильники для предпогребального хранения. Здесь же регистратура и кабинеты профильных специалистов: онколога, невролога, психолога и соцработника.
На втором этаже двухместные палаты с выходом на балкон. Обе койки для пациентов. Тут же разместят отдельные кресла-кровати для близких. На обоих этажах каждого крыла кухня-столовая.
На втором этаже двухместные палаты с выходом на балкон. Обе койки для пациентов. Тут же разместят отдельные кресла-кровати для близких. На обоих этажах каждого крыла кухня-столовая.
- «Мы не жалели социального пространства», — говорит Яхъё Зияев.
В будущем Taskin планируется объединить с «лимонарием», поскольку инфраструктура «Зангиаты» не подходит для оказания хосписной помощи: оно тихое, но выглядит заброшенным, забытым. Там лежачих детей невозможно вынести на улицу, потому что кровати не помещаются в дверные проёмы, а стыки на полу не позволяют катать их ровно.
- «У нас была пациентка с саркомой Юинга. Опухоль сломала ей позвоночник. Каждый стык отзывался бы в её теле дикой болью. А в "лимонарии" мы сразу учли, что пациентов смогут выгуливать на улице прямо на кроватях — там всё для хосписа».
Как и медработники Taskin, врачи «лимонария» пройдут повышение квалификации у специалистов по паллиативной помощи из Израиля, США и Беларуси.
- «Мы очень надеемся, что каждый сотрудник хосписа будет получать достойную зарплату. Чтобы не было головной боли о том, как прокормить семью. Я бы хотел, чтобы зарплата у медработников была хотя бы на уровне "ковидной" в разгар эпидемии. Чтобы врачи получали хотя бы по 1000 долларов и работали для улучшения качества жизни пациентов.
В "лимонарии" мы сделаем проект хосписа на дому. В больнице обучим родственников купировать боль, обрабатывать раны, дадим лекарства и отправим домой, потому что многим людям хочется умереть дома. Для домашних пациентов будет своя выездная бригада паллиативной помощи. В хосписе останутся только неконтролируемые больные». - «Кто это?»
- «Например, боль может быть такой, что морфин не помогает. Я проходил стажировку в американском городе Мемфис. Была пациентка с метастазами в костях. Для её обезболивания больница за два дня израсходовала весь городской запас "Суфентанила" — препарата в 100 раз сильнее морфина. Чтобы как-то облегчить пациентке жизнь, её ввели в искусственную кому и продолжали обезболивать».
- «Разрыв аорты — это неконтролируемый хосписный пациент?»
- «Нет. Это экстренный пациент. Но там смерть необратима почти в 100% случаев».
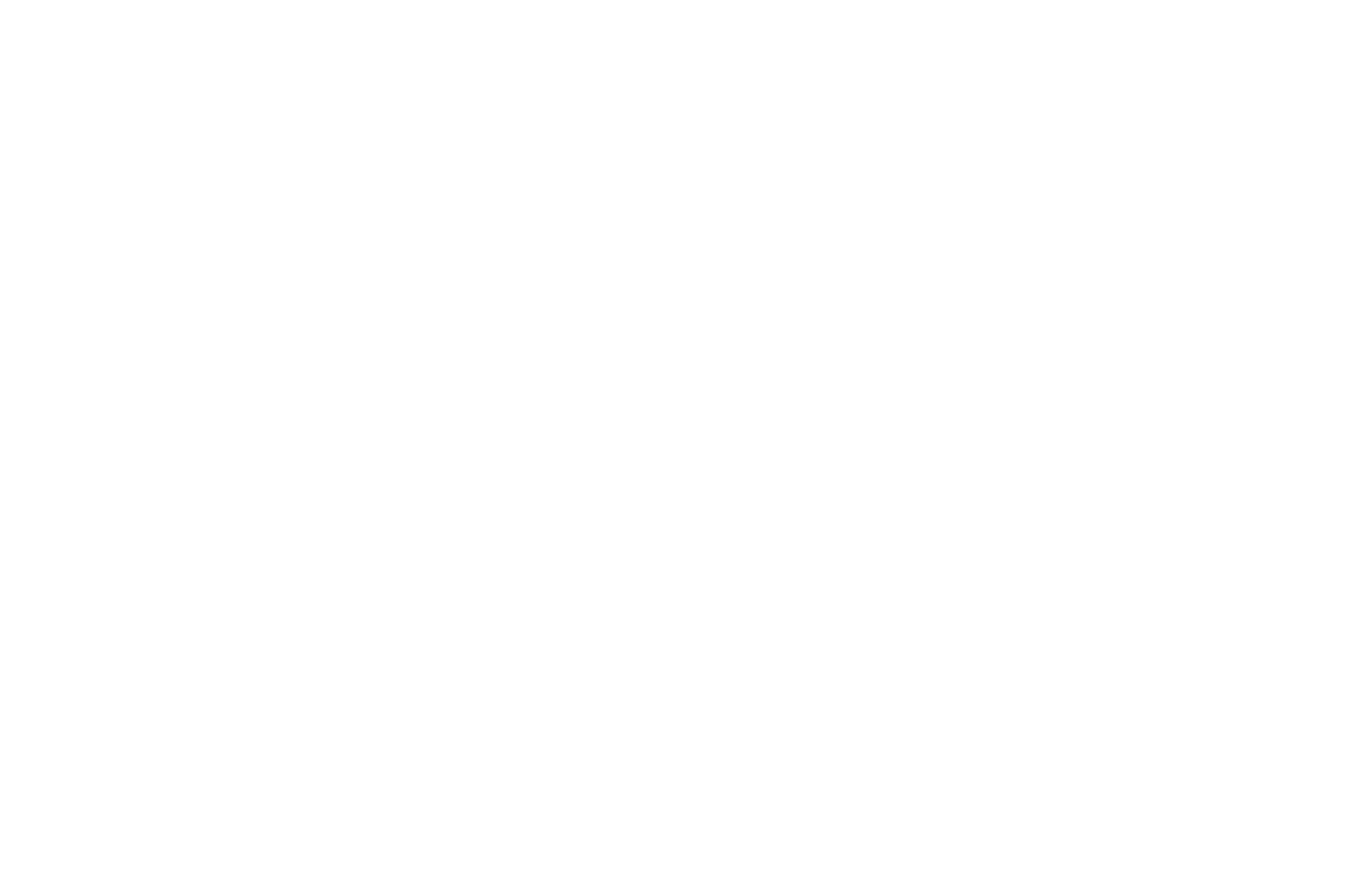
Пестрый проект хосписа висит на контейнере для строителей. Деревья, клумбы, фонтан напротив парадного входа, аккуратные кареты скорой помощи, серая черепица корпусов — как дворец французского короля.
- «Потому что люди же достойны в конце жизни… — мечтает онколог. — Чтобы хотя бы умереть как короли».
Средства на строительство хосписа выделяет местная власть. Когда хокимият Ташкента оторвёт от бесконечного благоустройства показательных улиц крупинку бюджета, «лимонарий» откроет двери для толпы ожидающих узбекистанцев.
В сухом остатке смерть придёт за каждым из нас. И если Богу угодно, чтобы она приняла онкологическое обличие, то улететь с ней из хосписа будет истинным проявлением его божественной любви. Милосердие его сотрудников сохранит нашим близким радостные воспоминания о нас живых. Похоронить эту память не сможет даже немыслимое.
В сухом остатке смерть придёт за каждым из нас. И если Богу угодно, чтобы она приняла онкологическое обличие, то улететь с ней из хосписа будет истинным проявлением его божественной любви. Милосердие его сотрудников сохранит нашим близким радостные воспоминания о нас живых. Похоронить эту память не сможет даже немыслимое.

Текст подготовила Сабина Бакаева.
Авторы фотографий: Мадина Аъзам, Евгений Сорочин / «Газета.uz».
Все права на текст и графические материалы принадлежат изданию «Газета.uz». С условиями использования материалов, размещенных на сайте интернет-издания «Газета.uz», можно ознакомиться по ссылке.
Знаете что-то интересное и хотите поделиться этим с миром? Пришлите историю на sp@gazeta.uz
Авторы фотографий: Мадина Аъзам, Евгений Сорочин / «Газета.uz».
Все права на текст и графические материалы принадлежат изданию «Газета.uz». С условиями использования материалов, размещенных на сайте интернет-издания «Газета.uz», можно ознакомиться по ссылке.
Знаете что-то интересное и хотите поделиться этим с миром? Пришлите историю на sp@gazeta.uz

