Фото: Евгений Сорочин / gazeta
Музыка махаллей
Прогулка по Ташкенту с выпускающим редактором «Газеты» Элиной Сакаевой
«Газета» продолжает проект «Музыка махаллей» в сотрудничестве с Yandex Music. В этом выпуске мы гуляем по Ташкенту с нашим выпускающим редактором Элиной Сакаевой, недавно получившей медаль «Шухрат». Мы поговорили с ней о свободе слова, правах женщин, развитии столицы и узнали, как пахнет Родина.
«Газета» продолжает проект «Музыка махаллей» в сотрудничестве с Yandex Music. В этом выпуске мы гуляем по Ташкенту с нашим выпускающим редактором Элиной Сакаевой, недавно получившей медаль «Шухрат». Мы поговорили с ней о свободе слова, правах женщин, развитии столицы и узнали, как пахнет Родина.
«Газета» — издание интровертов. Многие из нас редко общаются друг с другом, хотя тема для разговора с журналистом всегда найдётся. Особенно с Элиной. На один из её дней рождения я написала в поздравлении, что никогда не встречала женщины умнее. Я её даже побаиваюсь, потому что Элина — редкий образец человека, умеющего излагать мысли невероятно последовательно, осмысленно, аргументированно, литературно и быстро. Она как Екатерина Шульман или Антон Долин — люди, у которых язык — одна из разновидностей клеток крови. И такой человек будет читать этот мой текст. OMG.
Ещё одна характерная черта Элины — её уверенность в себе. Не самоуверенность. Она производит впечатление человека, так естественно убеждённого в своей ценности — ценности от Бога, ценности по рождению, — что ничто в ней не вызывает во мне отрицания или непонимания. Элина такая, какая она есть, потому что сама относится к себе с полным принятием. Её пример подтверждает правило: как относишься к себе, так к тебе будут относиться и другие. Это природное свойство моей коллеги хочется перенять, размножить и заложить его почему-то в каждую женщину. Мне кажется, именно женщинам в нашем обществе не хватает этого согласия с собой.
Я работаю в «Газете» шесть лет и не помню, чтобы мы когда-нибудь называли по имени ценности издания, хотя все безусловно ощущают единство своей и редакционной философии. Мне кажется, в интервью с Элиной я впервые слышу эти термины от коллеги и получаю развёрнутое толкование с примерами. У меня формируется совершенно стойкое понимание, что передо мной соратник и что именно эти абсолютно бескорыстные идеалы являются основополагающими для профессии журналиста. Поэтому сейчас, когда я пишу, я решаю подсвечивать каждую из этих ценностей, раз уж мне выпала такая возможность.
Ещё одна характерная черта Элины — её уверенность в себе. Не самоуверенность. Она производит впечатление человека, так естественно убеждённого в своей ценности — ценности от Бога, ценности по рождению, — что ничто в ней не вызывает во мне отрицания или непонимания. Элина такая, какая она есть, потому что сама относится к себе с полным принятием. Её пример подтверждает правило: как относишься к себе, так к тебе будут относиться и другие. Это природное свойство моей коллеги хочется перенять, размножить и заложить его почему-то в каждую женщину. Мне кажется, именно женщинам в нашем обществе не хватает этого согласия с собой.
Я работаю в «Газете» шесть лет и не помню, чтобы мы когда-нибудь называли по имени ценности издания, хотя все безусловно ощущают единство своей и редакционной философии. Мне кажется, в интервью с Элиной я впервые слышу эти термины от коллеги и получаю развёрнутое толкование с примерами. У меня формируется совершенно стойкое понимание, что передо мной соратник и что именно эти абсолютно бескорыстные идеалы являются основополагающими для профессии журналиста. Поэтому сейчас, когда я пишу, я решаю подсвечивать каждую из этих ценностей, раз уж мне выпала такая возможность.
Про журналистику и профессиональную миссию
Я познакомилась с журналистикой в 14 лет. У меня с детства была развитая фантазия — спасибо родителям, которые привили любовь к чтению, — и я хорошо писала сочинения. Учителя русского языка в школе и лицее говорили: «Элина — звезда русского языка». В последних классах школы я ходила в клуб журналистики в Центре детского творчества. Наш преподаватель Вадим что-то пытался нам донести по поводу журналистики. Не особо помню, что он говорил, но нам нужно было читать определённую литературу, например, «Божественную комедию» Данте Алигьери, и по мотивам этих произведений что-то пробовать писать или дискутировать.
Члены клуба выпускали маленькую газеточку, в ней я печатала свою романтическую прозу. Курс был двух- или трёхгодичным, я окончила его вместе со школой, а потом поступила в лицей при Институте кибернетики. На последнем курсе институт реорганизовали, лицей отнесли к УзГУМЯ, а весь состав перевели в новое здание на Текстиле.
Члены клуба выпускали маленькую газеточку, в ней я печатала свою романтическую прозу. Курс был двух- или трёхгодичным, я окончила его вместе со школой, а потом поступила в лицей при Институте кибернетики. На последнем курсе институт реорганизовали, лицей отнесли к УзГУМЯ, а весь состав перевели в новое здание на Текстиле.
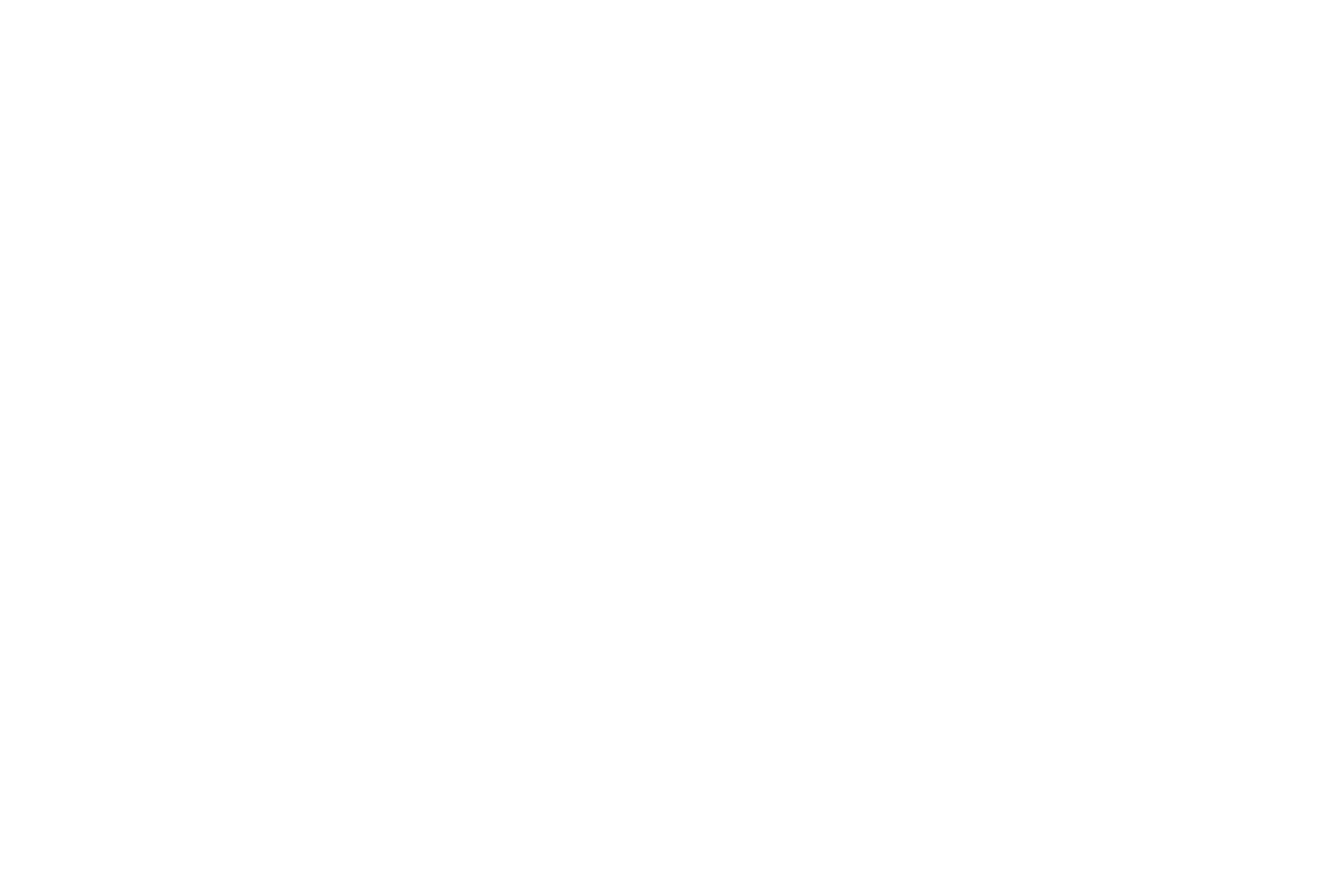
Преподаватели сменились полностью, учителем русского языка на последнем курсе лицея стала Ирина Александровна Туляганова. Если раньше педагоги просто хвалили меня и ставили пятерки, то Ирина Александровна сделала ход конём. Она сказала: «Элина, вам абсолютно необходимо поучаствовать в городской олимпиаде по русскому языку и литературе, потому что вы получите шанс на грантовое поступление в университет». Я же достаточно много прогуливала лицей и вообще впечатления надежного кадра не производила, поэтому спросила: «Неужели вы верите в меня?» Она ответила: «Конечно, я в тебя верю. А как иначе?»
Это на меня очень сильно подействовало. Она была внешне мне очень приятной. У неё был строгий, элегантный, учительский вид, в то же время она умела говорить на равных с любым учеником. И вот оказывается, что эта красивая, умная женщина верит в меня! Это было чем-то новым. Ирина Александровна вложила в меня уверенность в своих силах.
Я не заняла существенного места на олимпиаде — провалилась на тестах, но за сочинение взяла третье место. И тогда подумала, что имеет смысл идти на гуманитарное направление. Была уверена, что в журналистику не пробиться, поэтому думала стать социологом. Но в 2008-м, когда я поступала, в Национальном университете не открыли на социологию европейские группы. Учёбу на узбекском языке я бы не потянула, поэтому мы с мамой стали спешно пересматривать мои планы, особенно когда оказалось, что конкурс на журналистику не такой уж космический. Такое случайное попадание в профессию.
После поступления в университет я ещё лет 5-7 точно поздравляла Ирину Александровну на 1 октября. Она же никогда не воспринимала это как что-то особенное. Приветствовала меня как любого рядового ученика. Мне кажется, это признак какой-то огромной широты души человека, когда он сделал что-то хорошее и забыл. Может, я в то время и сказать толком не могла о её вкладе. Столько лет прошло, а я только доосмыслила.
Это на меня очень сильно подействовало. Она была внешне мне очень приятной. У неё был строгий, элегантный, учительский вид, в то же время она умела говорить на равных с любым учеником. И вот оказывается, что эта красивая, умная женщина верит в меня! Это было чем-то новым. Ирина Александровна вложила в меня уверенность в своих силах.
Я не заняла существенного места на олимпиаде — провалилась на тестах, но за сочинение взяла третье место. И тогда подумала, что имеет смысл идти на гуманитарное направление. Была уверена, что в журналистику не пробиться, поэтому думала стать социологом. Но в 2008-м, когда я поступала, в Национальном университете не открыли на социологию европейские группы. Учёбу на узбекском языке я бы не потянула, поэтому мы с мамой стали спешно пересматривать мои планы, особенно когда оказалось, что конкурс на журналистику не такой уж космический. Такое случайное попадание в профессию.
После поступления в университет я ещё лет 5-7 точно поздравляла Ирину Александровну на 1 октября. Она же никогда не воспринимала это как что-то особенное. Приветствовала меня как любого рядового ученика. Мне кажется, это признак какой-то огромной широты души человека, когда он сделал что-то хорошее и забыл. Может, я в то время и сказать толком не могла о её вкладе. Столько лет прошло, а я только доосмыслила.
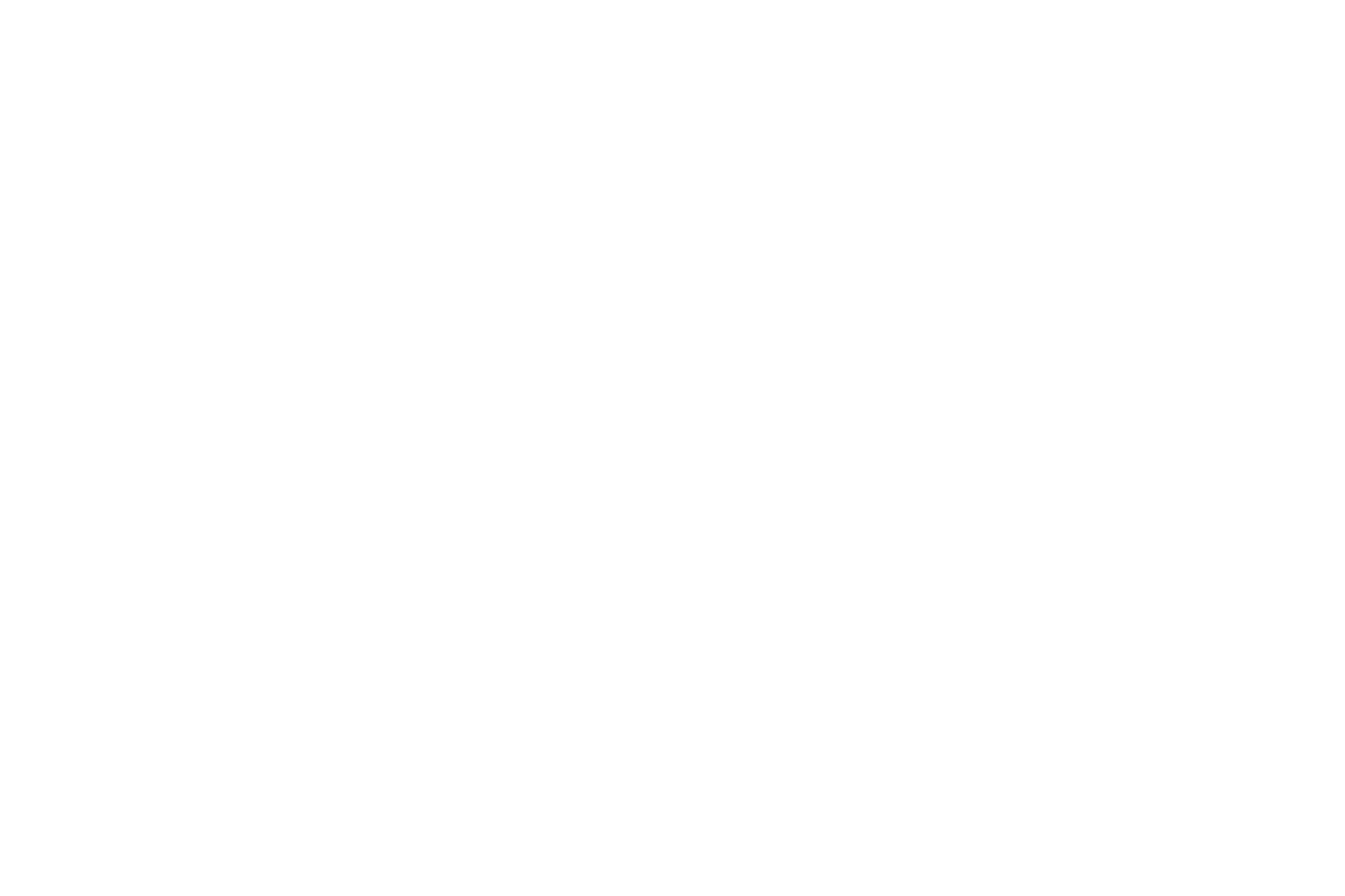
Когда мы в «Газете» писали новость о том, что меня наградили медалью «Шухрат», я посчитала, что работаю в издании девять лет. Девять! У меня в голове это все еще года три. Времени в новостной текучке не замечаешь. Может быть, это в какой-то степени признак того, что работа нравится. Если бы не нравилась, год, наоборот, был бы за три.
Не могу сказать, что я всегда супер патриот своей работы, ежедневно бью себя пяткой в грудь за наше дело. Когда первые три года отработала, сделала в «Фейсбуке» пост о том, что за это время у меня ещё не было такого утра, когда я бы проснулась и подумала, что не хочется на работу. Но по прошествии девяти лет приходится признать, что такие дни бывают. Не потому, что мне лень. Просто не хочется потреблять информацию.
Но мысли уходить из профессии у меня никогда не возникало. Это, возможно, то единственное, что я замечательно умею делать. В работе мне нравится то же, что и не нравится — необходимость каждый день читать новости. Есть люди, которые говорят, что они вне политики, поэтому не читают новости. Иногда тоже хочется иметь этот выбор. Но вообще вся наша повседневная жизнь — это и политика, и экономика, и экология, так что лучше оставаться вовлеченным.
Не могу сказать, что я всегда супер патриот своей работы, ежедневно бью себя пяткой в грудь за наше дело. Когда первые три года отработала, сделала в «Фейсбуке» пост о том, что за это время у меня ещё не было такого утра, когда я бы проснулась и подумала, что не хочется на работу. Но по прошествии девяти лет приходится признать, что такие дни бывают. Не потому, что мне лень. Просто не хочется потреблять информацию.
Но мысли уходить из профессии у меня никогда не возникало. Это, возможно, то единственное, что я замечательно умею делать. В работе мне нравится то же, что и не нравится — необходимость каждый день читать новости. Есть люди, которые говорят, что они вне политики, поэтому не читают новости. Иногда тоже хочется иметь этот выбор. Но вообще вся наша повседневная жизнь — это и политика, и экономика, и экология, так что лучше оставаться вовлеченным.
Ценность «Газеты» №1
Ещё одна причина, по которой мне важна моя работа, — это возможность повлиять на что-то. Понятно, что мы не политики, но, тем не менее, у «Газеты» достаточно большой общественный вес. Не в последнюю очередь благодаря авторитету главного редактора Азамата Атаджанова и поддержке заданного им редакционного стандарта. Мы не используем это влияние для каких-то игр с общественным мнением, в личном пиаре или пиаре непопулярных решений. Направляем свой вес на то, чтобы сделать город, и иногда, если получается, страну, чуть лучше.
Бывают моменты такого тяжёлого выгорания, когда мне совсем не хочется читать новости и тем более писать их. Хочется просто целый день не вылезать из кровати. Но, к счастью, эти периоды сменяемы. И когда я задаю себе вопрос «Могу и хочу ли я жить вне этого?», я понимаю, что нет. Мне по-прежнему хочется иметь возможность продвигать то, во что я верю.
Ценность «Газеты» №2
У меня почти нет авторских материалов, но как выпускающий редактор я существенно влияю на ежедневную повестку «Газеты» и на своём уровне могу решить, что важно сегодня дать читателю, какой добавить бэкграунд, чтобы он понял суть вопроса, каким экспертам предоставить слово. Соответственно, я выбираю темы, исходя из редакционных — общечеловеческих ценностей.
Например, когда в Административный кодекс внесли поправки о сексуальных домогательствах, которые включают в себя и уличные приставания, мы старались не пропускать инфоповоды и публиковать информацию о том, что за домогательства в метро или автобусе штрафуют, чтобы люди знали: это теперь наказуемо.
До того, как стали говорить о правах женщин на уровне власти, абсолютно реально было увидеть публикации на страницах государственных органов с посылом о том, что нельзя разрушать семью и обижать кормильца только потому, что тебя ударили. В 2017 году я даже сделала скриншот публикации с таким посылом на сайте МВД.
До того, как стали говорить о правах женщин на уровне власти, абсолютно реально было увидеть публикации на страницах государственных органов с посылом о том, что нельзя разрушать семью и обижать кормильца только потому, что тебя ударили. В 2017 году я даже сделала скриншот публикации с таким посылом на сайте МВД.
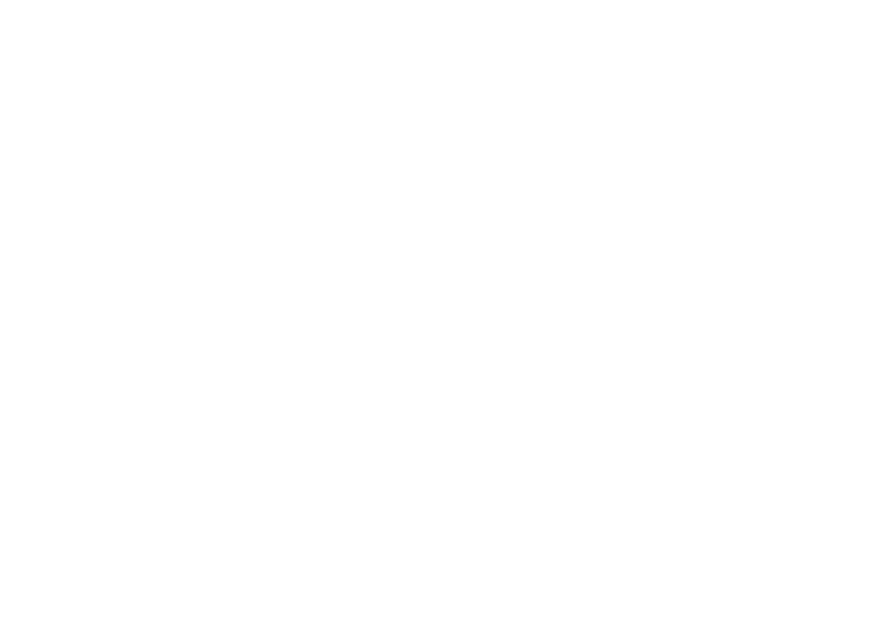
Ценность «Газеты» №3
Из-за физиологической и социальной уязвимости женщины и дети больше подвержены тому, что их права могут быть нарушены. Чтобы это изменить, должна быть неотвратимость наказания, как и в случае с любыми другими правонарушениями. Через опаску перед законом должна возникнуть правовая культура, чтобы агрессоры действительно боялись позволить себе откровенно лишнее в адрес женщины. В первую очередь, нулевая терпимость должна быть к насилию в семье. Недопустимо оправдывать его тем, что женщина «довела», «напросилась» или «заслужила». В принципе — не должно быть насилие нормой: к детям ли, к женщинам ли, к мужчинам ли.
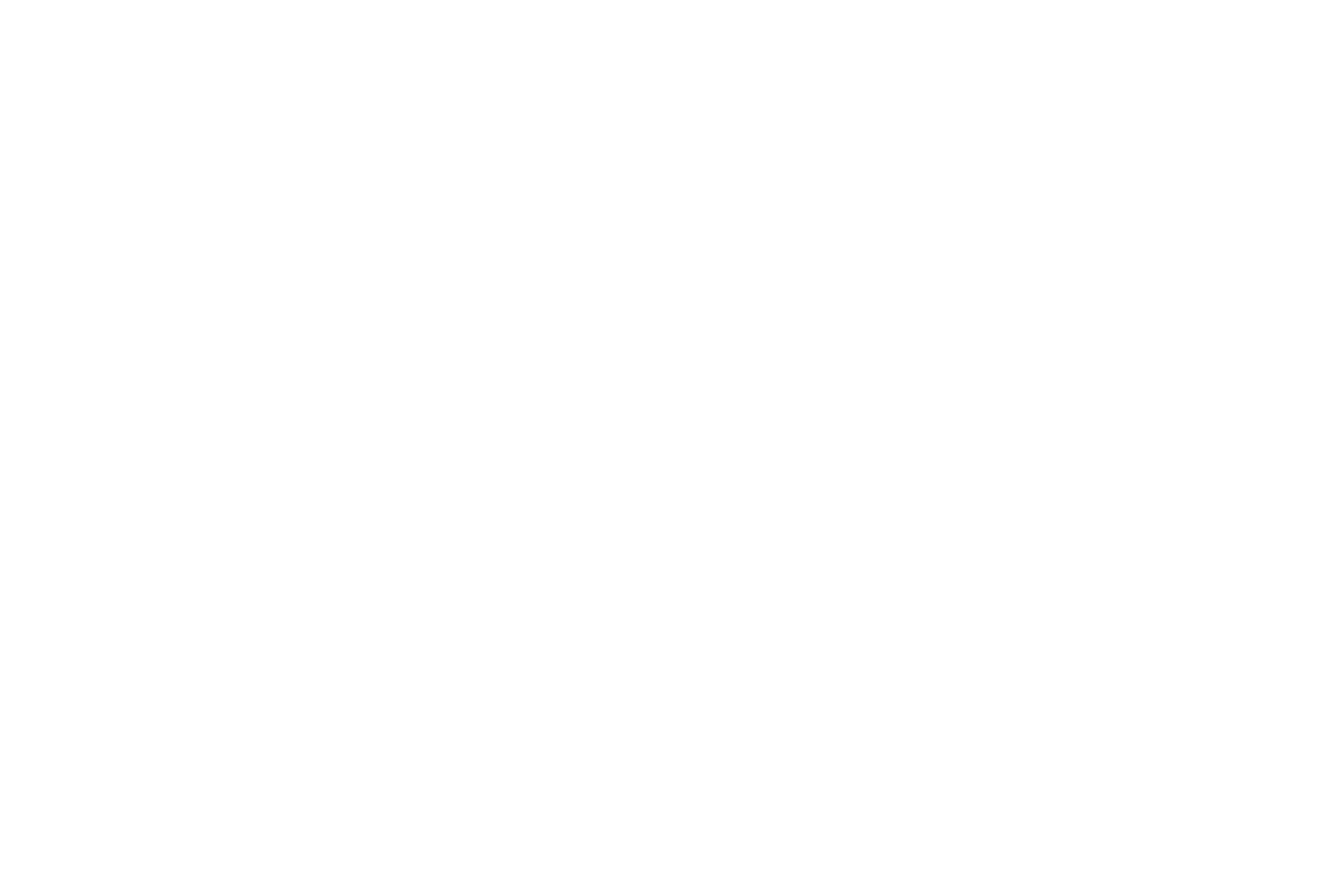
Про свободу слова
Рассуждать про свободу слова — неблагодарное дело. Я думаю, об этом не говорить надо — этим надо последовательно, эволюционно, а не революционно заниматься. Не верю в свободу слова, которую кто-то может дать. 148-е место в Индексе свободы слова говорит о том, что нам, журналистам, ещё есть над чем работать. Думаю, вполне рациональный подход — не идти напролом, а действовать деликатно, пробовать красные линии на прочность, чтобы понять, как далеко можно зайти. В то же время нужно работать в рамках стандарта о том, что журналистика больше всё-таки про общество, чем про государство.
Ценность «Газеты» №4
Считаю, что журналисты, в первую очередь, должны работать над собой. Призывать не бояться бессмысленно, у каждого, наверное, есть своя история, как сформировалась самоцензура. Я бы скорее призвала журналистов попытаться найти компромиссный язык, не слишком конфликтный и провокационный. Иногда мягкость в подходе может дать более значительные результаты, нежели лобовые атаки. Я считаю, что если ты хочешь достичь цели в общественном дискурсе, надо спрашивать себя, как в текущих условиях лучше это сделать. И если ответ — быть гибким, значит, нужно быть гибким.
Про отношения с собой
Чаще всего, я с собой в ладу, ни за что себя не стыжу, ни за что не третирую — ни за внешность, ни за какие-то привычки, ни за то, что я сказала или не сказала. Конечно, рефлексирую, как все люди, но без самоедства. Не знаю, как так получилось. Возможно, это связано с моей семьёй. Когда я была маленькая, родители никогда категорически не говорили мне: «Не делай то, делай это». Никогда не говорили, что я глупая или неправильно поступаю. Если у них были какие-то претензии или вопросы, можно было это обсудить. У меня в семье не было деспотичных людей, которые навязывали своё мнение. Наверное, поэтому я с таким принятием к себе отношусь. У меня есть право на ошибку, есть право на неправильные действия, но в целом всё поправимо. Так и живу с этой парадигмой.
Знаю, есть люди, которые успешно преодолевали не особенно здоровые установки, доставшиеся от семьи. Например, те, кого в детстве били, — но они выросли с пониманием, что это неправильно и это не метод воспитания. Не знаю, каким образом можно это проработать. Наверное, быть как можно более открытыми жизненному опыту, который вызывает положительные эмоции. Вряд ли их будет вызывать партнёр, который обращается с тобой так же, как когда-то обращались родители.
Я знаю, что есть парадигмы, когда человек неосознанно повторяет сценарии детства. Допустим, если из семьи ушёл отец, и это было большой эмоциональной потерей для девочки, то в будущем есть вероятность, что поиск партнера приведёт её к похожему на отца человеку, который тоже имеет потенциал бросить или играть в непонятные игры с её эмоциями. Эту болезненную привязанность сложно преодолеть. Но если есть внутренние ресурсы и понимание, что это нездорово — это можно проработать, в том числе с помощью терапии.
Журналистам тяжело рассуждать, не имея к каждой фразе какой-то аргумент или экспертизу — свою или еще чью-то. А у людей действительно такие ожидания от общения с журналистами. Ты приходишь в любую компанию, будь то на экскурсии или у родственников, в кругу друзей друзей, и что там в первую очередь? Тебя представляют: «А вот Элина работает в “Газете”». И все такие: «Оооо, в “Газете”», — смотрят на тебя, явно ожидая, что ты незыблемую мудрость веков начнешь выдавать, каждым своим словом извергая правду и истину в одном флаконе. Возможно, из-за этого появилась моя интроверсия в компаниях. Предпочитаю улыбаться и молчать.
Я знаю, что есть парадигмы, когда человек неосознанно повторяет сценарии детства. Допустим, если из семьи ушёл отец, и это было большой эмоциональной потерей для девочки, то в будущем есть вероятность, что поиск партнера приведёт её к похожему на отца человеку, который тоже имеет потенциал бросить или играть в непонятные игры с её эмоциями. Эту болезненную привязанность сложно преодолеть. Но если есть внутренние ресурсы и понимание, что это нездорово — это можно проработать, в том числе с помощью терапии.
Журналистам тяжело рассуждать, не имея к каждой фразе какой-то аргумент или экспертизу — свою или еще чью-то. А у людей действительно такие ожидания от общения с журналистами. Ты приходишь в любую компанию, будь то на экскурсии или у родственников, в кругу друзей друзей, и что там в первую очередь? Тебя представляют: «А вот Элина работает в “Газете”». И все такие: «Оооо, в “Газете”», — смотрят на тебя, явно ожидая, что ты незыблемую мудрость веков начнешь выдавать, каждым своим словом извергая правду и истину в одном флаконе. Возможно, из-за этого появилась моя интроверсия в компаниях. Предпочитаю улыбаться и молчать.
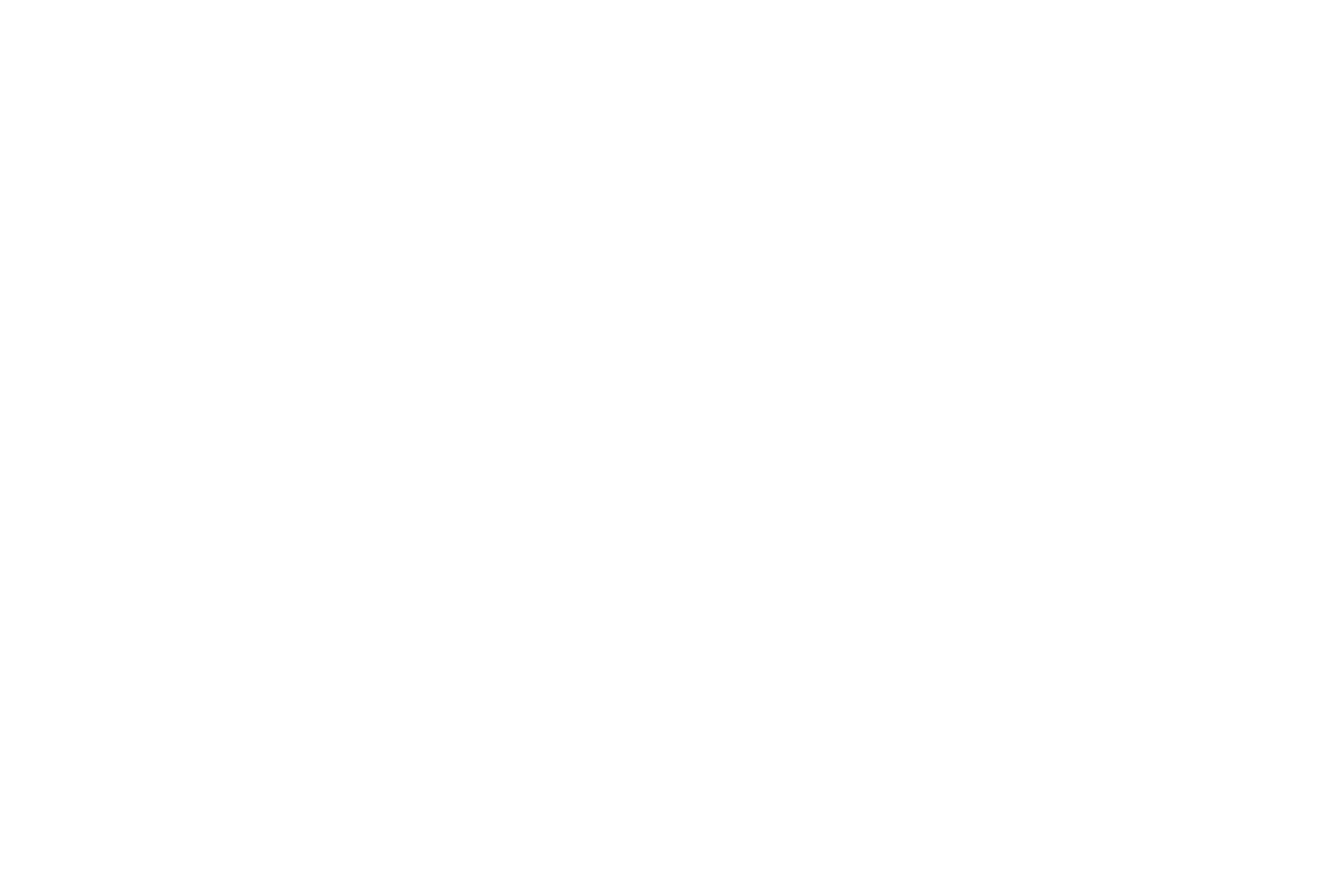
Хотя мне ещё до работы журналистом было важно выражать своё мнение аргументированно. Возможно, на это повлияло общение в сети, где нужно быть внимательным к тому, что ты утверждаешь, потому что всегда мог найтись человек, который тебе приведёт достаточно достойный контраргумент и подсветит, что ты не полностью владеешь темой. Почему-то меня это задевало. Я всегда считала, что если уж вступать в дискуссию, то мнение должно быть чем-то подкреплено. Если у меня его нет или я не уверена, как к чему-то стоит относиться, пойду почитаю, что умные люди «в теме» об этом пишут и потом сложу своё мнение.
Про урбанистический патриотизм и тишину в городе
Я никогда не переезжала из Мирзо-Улугбекского района и являюсь, наверное, его патриотом, потому что он считается одним из самых зелёных в Ташкенте. Не знаю, насколько это заслуга самого района, возможно, причина в одной из главных улиц города, которая проходит здесь. Но пользуюсь этими благами с удовольствием!
Хорошо помню, как выглядел город в годы моего детства и могу сравнить эти изменения. Например, на месте нашего офиса на Паркентской — тогда на массиве генерала Петрова, — были гаражи и маленький коммерческий магазин размером с газетный киоск, он частенько стоял закрытым. Мы с мамой ходили на Паркентский базар через это место. Оно выглядело слегка депрессивно, в одиночку здесь было страшновато.
По улице Мирзо Улугбека проходила трамвайная линия. Когда я начала пользоваться общественным транспортом, лет в 15-16, здесь находилась моя остановка. До этого возраста ничего не требовало от меня уезжать далеко от дома. Но когда начала пользоваться интернетом, появились друзья, которые жили не в моём районе, и пришлось экстренно осваивать общественный транспорт, что доставляло мне большое удовольствие.
Хорошо помню, как выглядел город в годы моего детства и могу сравнить эти изменения. Например, на месте нашего офиса на Паркентской — тогда на массиве генерала Петрова, — были гаражи и маленький коммерческий магазин размером с газетный киоск, он частенько стоял закрытым. Мы с мамой ходили на Паркентский базар через это место. Оно выглядело слегка депрессивно, в одиночку здесь было страшновато.
По улице Мирзо Улугбека проходила трамвайная линия. Когда я начала пользоваться общественным транспортом, лет в 15-16, здесь находилась моя остановка. До этого возраста ничего не требовало от меня уезжать далеко от дома. Но когда начала пользоваться интернетом, появились друзья, которые жили не в моём районе, и пришлось экстренно осваивать общественный транспорт, что доставляло мне большое удовольствие.
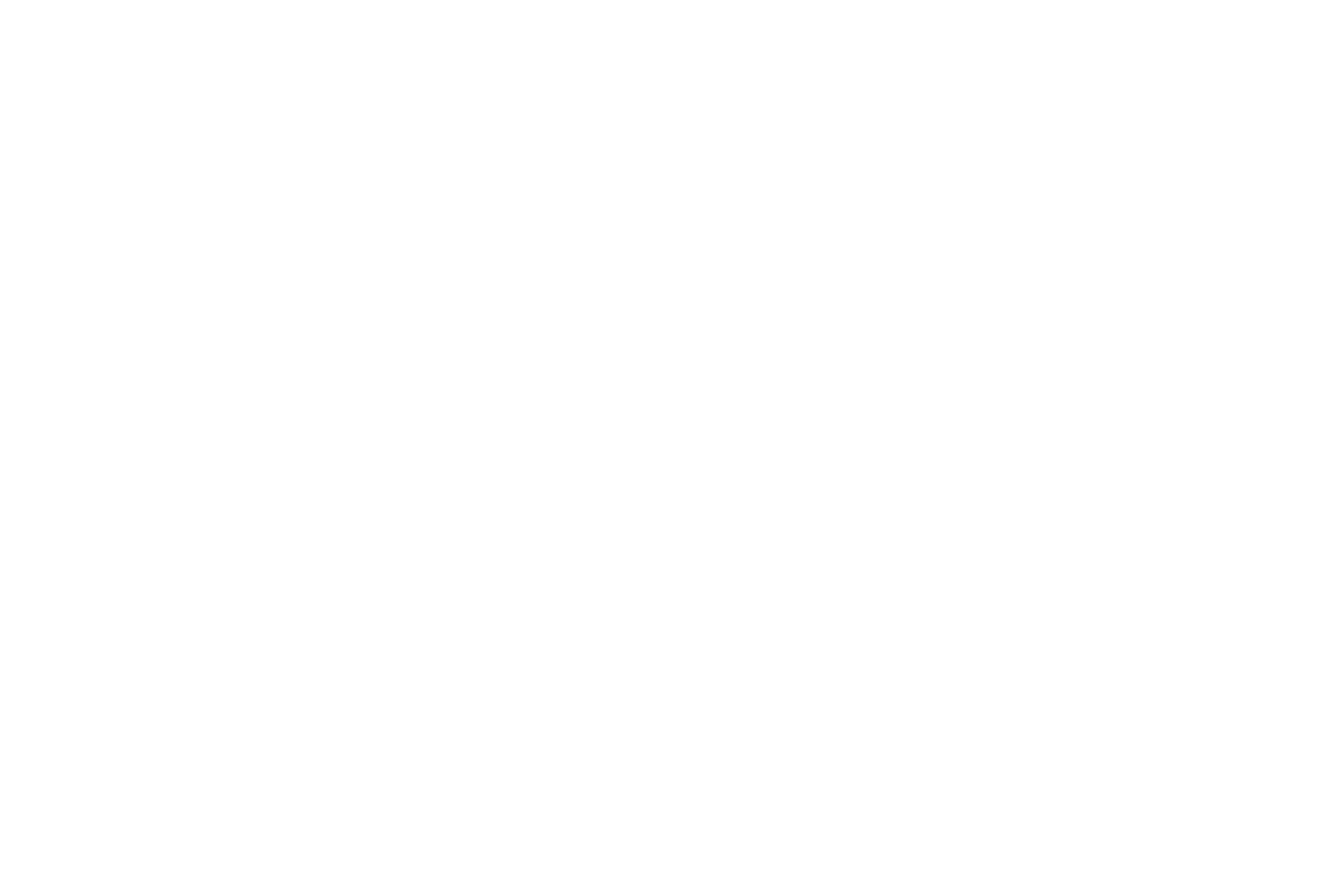
Первая поездка, как сейчас помню, была сразу на другой конец города — на Братские могилы. Мне тщательно объяснили, как добраться, и у меня даже получилось не налажать с первого раза. Это был волнительный опыт, когда ты, словно взрослый, садишься в общественный транспорт, платишь за себя и едешь под свою ответственность не пропустить нужную остановку.
В этом возрасте мне очень хотелось свободы, когда ты просто выходишь из дома навстречу приключениям. Возможно, это не самое полезное времяпрепровождение для подростка, и можно было потратить часы с большим толком — выучить английский, например. Но я считаю, что мне пригодился этот опыт — вольные прогулки и общение с людьми, с которыми мне хотелось общаться. Я научилась лучше разбираться в людях и быть менее наивной.
Земной я, конечно, не стала, а в детстве и вовсе всё время витала в облаках. Мы с родителями жили в старом доме из самана между президентской трассой и Саларской базой. У нас был очень тихий и зелёный двор. Я всё детство провела, ковыряясь в палисаднике, играя вместо кукол с растениями — фантазия у меня была отменная. Тополиные листья с длинным стеблем и резными краями были птичками. Я строила им гнёзда из соломы. Метёлки-колоски, которые появлялись по весне, были ёжиками. А ещё были дикорастущие цветочки-вьюнки — если отсечь ногтем соцветие от стебелька, то получалась дама в очень пышном розовом платье. Эта окружающая меня природа была приятным фоном для моего уединённого развития. Я не так уж много играла с другими детьми, потому что любила побыть одна и помечтать.
В этом возрасте мне очень хотелось свободы, когда ты просто выходишь из дома навстречу приключениям. Возможно, это не самое полезное времяпрепровождение для подростка, и можно было потратить часы с большим толком — выучить английский, например. Но я считаю, что мне пригодился этот опыт — вольные прогулки и общение с людьми, с которыми мне хотелось общаться. Я научилась лучше разбираться в людях и быть менее наивной.
Земной я, конечно, не стала, а в детстве и вовсе всё время витала в облаках. Мы с родителями жили в старом доме из самана между президентской трассой и Саларской базой. У нас был очень тихий и зелёный двор. Я всё детство провела, ковыряясь в палисаднике, играя вместо кукол с растениями — фантазия у меня была отменная. Тополиные листья с длинным стеблем и резными краями были птичками. Я строила им гнёзда из соломы. Метёлки-колоски, которые появлялись по весне, были ёжиками. А ещё были дикорастущие цветочки-вьюнки — если отсечь ногтем соцветие от стебелька, то получалась дама в очень пышном розовом платье. Эта окружающая меня природа была приятным фоном для моего уединённого развития. Я не так уж много играла с другими детьми, потому что любила побыть одна и помечтать.
Тишины махаллей нам с мужем сейчас очень не хватает в квартире, но свой дом требует колоссального ухода, и эта мысль нас немного пугает. Муж тоже вырос в доме на земле, и иногда нам хочется иметь возможность быть к ней ближе, выйти вечером во двор, подышать влажной почвой, опавшей листвой, посидеть на свежем воздухе. Именно из-за этой привычки жить на земле мне по сей день критически важно, просыпаясь, видеть в окно небо и деревья.
Поэтому я всегда предпочитаю жить в старом фонде — где ещё найдёшь такие деревья и такую намоленность места. Намоленность не в религиозном смысле, а в плане уюта, сложившихся привычек, эмоций и воспоминаний, которые связывают с родными местами. В целом мне кажутся более уютными места со старой застройкой. Возможно, просто потому, что они меня с самого детства сопровождают своими очертаниями, и в них есть немного моей души, немного памяти поколений.
Поэтому я всегда предпочитаю жить в старом фонде — где ещё найдёшь такие деревья и такую намоленность места. Намоленность не в религиозном смысле, а в плане уюта, сложившихся привычек, эмоций и воспоминаний, которые связывают с родными местами. В целом мне кажутся более уютными места со старой застройкой. Возможно, просто потому, что они меня с самого детства сопровождают своими очертаниями, и в них есть немного моей души, немного памяти поколений.
Например, я ходила в школу, которую много лет назад окончил мой папа. На улице, где я живу сейчас, — бассейн, в который хожу много лет. Для меня это особый летний ритуал: сходить в бассейн, расслабиться, нервные клетки по местам разложить после новостей, а потом выпить кофе в кофейне через дорогу.
О прогулках, музыке и запахе Родины
Недостаток природы я стараюсь компенсировать прогулками. Хожу домой пешком с работы в любую погоду. Такие 50 минут быстрого семенения. Мне очень нравится отрезок моего маршрута вдоль «президентской трассы». Здесь зелено и достаточно прохладно в жаркую погоду, безумно красиво, когда лежит снег, и осенью, потому что листва деревьев плавно меняет свой цвет: от ярко-жёлтых клёнов до коричневых дубов и бордовой индийской сирени.
Хотя на этой улице не лучший тротуар, которой подвергся «великолепной» бетонной реконструкции, но он достаточно ровный. Можно разойтись с велосипедистами, которые тоже очень активно пользуются им. Много собачников с питомцами — у меня сейчас нет домашних животных, но раньше были и мне нравится смотреть на них.
Хотя на этой улице не лучший тротуар, которой подвергся «великолепной» бетонной реконструкции, но он достаточно ровный. Можно разойтись с велосипедистами, которые тоже очень активно пользуются им. Много собачников с питомцами — у меня сейчас нет домашних животных, но раньше были и мне нравится смотреть на них.
На мой взгляд, на трассе достаточно тихо — наверное, потому, что обычно я гуляю в наушниках. Слушаю разнообразный метал, хотя сейчас не так категорична в своих музыкальных вкусах, как в юности.
Когда я познакомилась с мужем, ярым металлюгой, он сказал, что альбомы нужно слушать целиком, потому что исполнитель закладывает в него какую-то концепцию, которая является неполной, если слушать по одной песне из альбома. Врать не буду, это у меня получалось редко.
Единственное, что я намеренно слушала для большого своего удовольствия полным альбомом, это мюзиклы. Например, старый российский мюзикл «Последнее испытание» по американской фэнтези-серии «Сага о копье», но с большим и творческим переосмыслением. Очень приятный мюзикл, философский, экзистенциальный, драматургический; замечательные голоса, прекрасная лирика. Его несколько раз ставили в разных постановках разные театральные труппы.
Когда я познакомилась с мужем, ярым металлюгой, он сказал, что альбомы нужно слушать целиком, потому что исполнитель закладывает в него какую-то концепцию, которая является неполной, если слушать по одной песне из альбома. Врать не буду, это у меня получалось редко.
Единственное, что я намеренно слушала для большого своего удовольствия полным альбомом, это мюзиклы. Например, старый российский мюзикл «Последнее испытание» по американской фэнтези-серии «Сага о копье», но с большим и творческим переосмыслением. Очень приятный мюзикл, философский, экзистенциальный, драматургический; замечательные голоса, прекрасная лирика. Его несколько раз ставили в разных постановках разные театральные труппы.
Когда появилась Yandex Music и «Моя волна», стало понятно, что большинство юзеров приложения слушает все-таки рандом, а не альбомы. Персональные ИИ-подборки были в новинку, и я и стала открывать для себя много исполнителей в пограничных жанрах — уже не только метал, но блюз-рок, транс и электроника.
Когда я выхожу после работы, надеваю наушники и запускаю плейлист. Для меня это момент единения с собой и музыкой на протяжении 50 минут, когда ты не получаешь информацию, не перевариваешь её, не продуцируешь, а просто находишься в каком-то трансе, воспринимая окружающую действительность только на уровне того, чтобы на тебя самокатчик не наехал. Это приятно. Такой хороший путь разгрузить мозги. Но сделать это удаётся не всегда.
Когда я выхожу после работы, надеваю наушники и запускаю плейлист. Для меня это момент единения с собой и музыкой на протяжении 50 минут, когда ты не получаешь информацию, не перевариваешь её, не продуцируешь, а просто находишься в каком-то трансе, воспринимая окружающую действительность только на уровне того, чтобы на тебя самокатчик не наехал. Это приятно. Такой хороший путь разгрузить мозги. Но сделать это удаётся не всегда.
Сколько бы лет ни работала, иногда не получается включить достаточно цинизма, чтобы легко пережить какую-то ситуацию из новостей. Понятно, что у журналистов один фактор стресса сменяется другим, ни на чём не зацикливаешься. Но в моменте, когда отрабатываешь новость о каком-то зловещем насилии, чувство мотивированности и желания интенсивно жить может быть очень низкое.
Конечно, со временем соглашаешься с тем, что для комфортного самочувствия должен быть баланс. Глобальных потрясений какая-то милая забавная новость не исправит, но, по крайней мере, даст отвлечься. Для человеческой психики, наверное, очень свойственно искать возможность переключиться, в противном случае она может начать сбоить.
Когда я впервые почувствовала признаки профессионального выгорания, у меня появилась очень странная мысль о том, что я хочу работать пешим курьером: минимальная умственная нагрузка, просто ходишь по городу и если повезёт, у тебя не очень тяжёлый короб за спиной.
Конечно, со временем соглашаешься с тем, что для комфортного самочувствия должен быть баланс. Глобальных потрясений какая-то милая забавная новость не исправит, но, по крайней мере, даст отвлечься. Для человеческой психики, наверное, очень свойственно искать возможность переключиться, в противном случае она может начать сбоить.
Когда я впервые почувствовала признаки профессионального выгорания, у меня появилась очень странная мысль о том, что я хочу работать пешим курьером: минимальная умственная нагрузка, просто ходишь по городу и если повезёт, у тебя не очень тяжёлый короб за спиной.
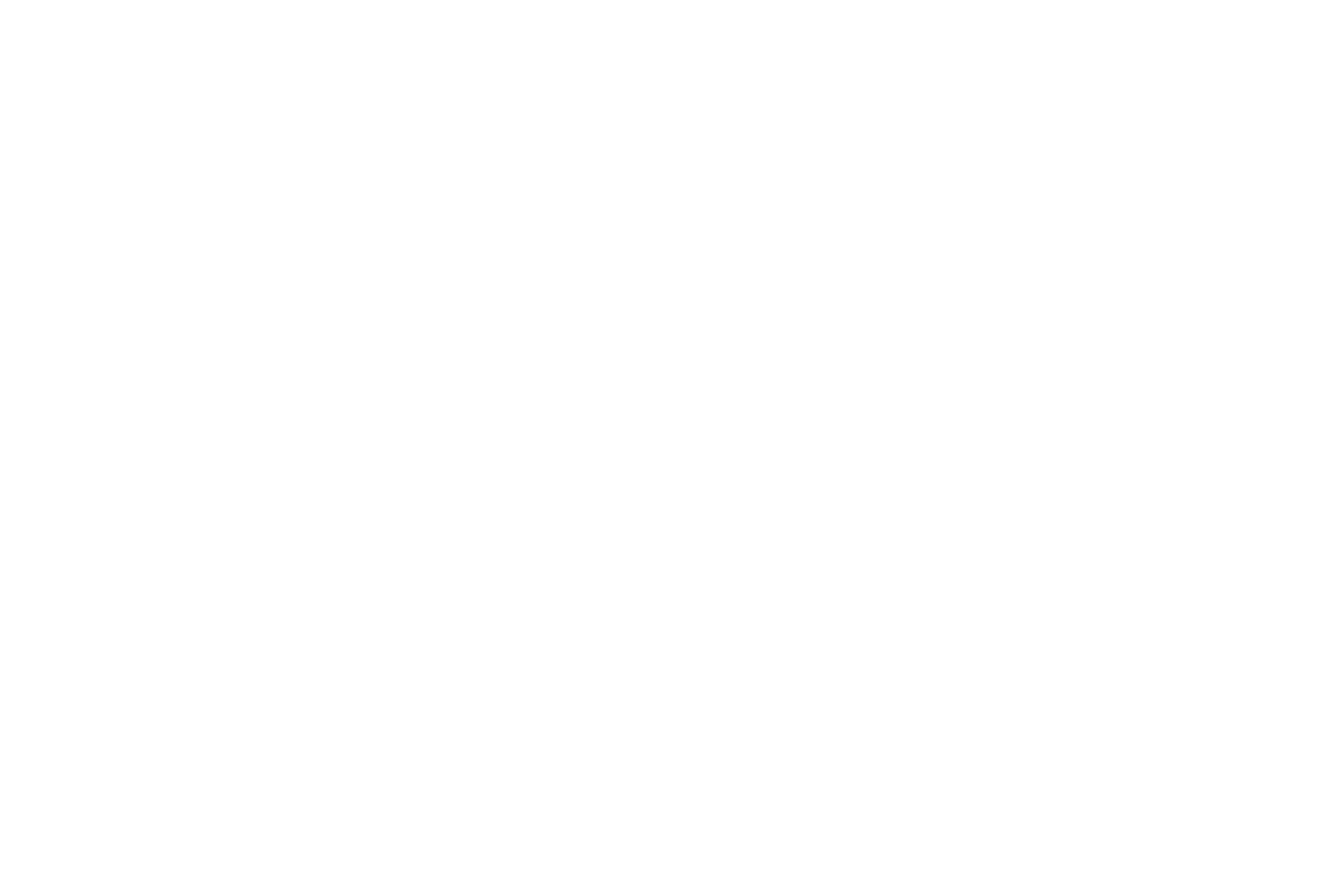
Справиться с выгоранием помогает хотя бы выходной или даже работа из дома. Поскольку я интроверт, мне иногда просто критически необходимо побыть одной и прийти в себя. Поэтому я люблю одиночные прогулки, плавание, выезды за город. Люблю этот своеобразный запах ташкентских гор — запах реки, тины, ночной свежести, костра, на котором готовят еду, прибитой влагой пыли, которые чувствуешь, уезжая от Ташкента минимум на километров 60. Для меня так пахнет Родина.
О страхе переходить дорогу и запаркованных тротуарах
Всегда хожу домой одной дорогой — той, что длиннее, потому что так я перехожу улицу четыре раза, а если короткой, то восемь. Переходить дорогу для меня всегда стресс. Может быть, со временем, когда я стала работать редактором, эта тревожность приобрела гротескные очертания, потому что чем сильнее ты насмотрен, тем больше опасаешься. Ну а кто видит больше, чем медики, сотрудники ОВД и журналисты?
До работы в «Газете» я не задумывалась, почему так неудобно или неуютно идти по улице. Но благодаря базе, полученной от главного редактора, взгляд на эти вещи стал более упорядоченным.
До работы в «Газете» я не задумывалась, почему так неудобно или неуютно идти по улице. Но благодаря базе, полученной от главного редактора, взгляд на эти вещи стал более упорядоченным.
Ценность «Газеты» №5
Пешеходом чувствуешь себя незащищенным из-за того, что проезжая часть, как правило, достаточно ровная, прямая и гладкая для того, чтобы по ней летели, ни в чем себя не ограничивая. Получается, многое остаётся на откуп водителю, а не должно.
Светофор тоже не всегда спасение. Пешеходный переход в конце Аккурганской, где я живу, тому подтверждение. Когда на Т-образке поставили светофор, нерегулируемый пешеходный переход в 70 метрах от него ликвидировали: зебру закрасили, знаки спилили. Много копий сломали над этим переходом, потому что он был удобнее и безопаснее перехода на светофоре, где поворачивающие с любой из сторон перекрёстка машины не особенно горят желанием останавливаться перед пешеходами, несмотря на то, что им горит зелёный. Здорово, что переход на его «историческом» месте недавно вернули жителям. Он точно на своем месте.
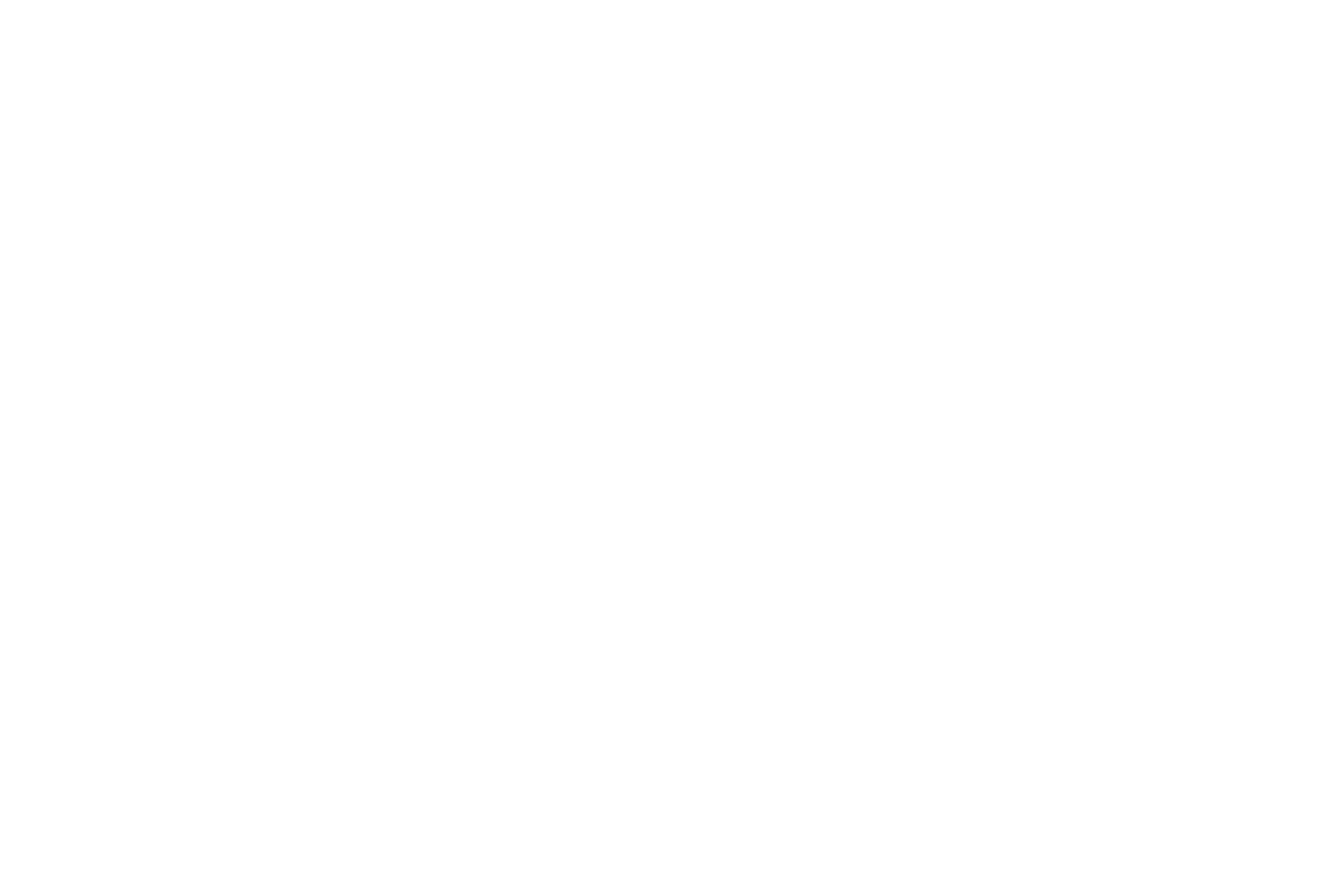
Сама Аккурганская, на мой взгляд, тоже довольно проблемная. Она мне очень симпатична, я всегда хотела на ней жить, но улица настолько популярна, что от этого страдает. Здесь открывается достаточно много бизнеса на первых этажах. Участок тротуара вдоль этого бизнеса всецело зависит от совестливости владельцев: сделают ли они аккуратную нескользкую плиточку, сохранят ли зелёную полосу, зальют ли бетоном старые красивые деревья, за которые любят Аккурганскую?
Рядом с домом уже приходилось спасать закатанные в асфальт стволы деревьев через «Халк назорат». Приехал инспектор, и мы с ним ручками показывали рабочим, сколько нужно от деревьев отступать. К счастью, можно рассчитывать на оперативную реакцию через приложение «Халк назорат». К сожалению, оперативно получается только со случаями, касающимися Минэкологии. В остальных ситуация трудно чего-то добиться.
Например, всё, что касается стихийной парковки на тротуарах, остаётся без внимания. Почти вся Аккурганская подвержена беспорядочной парковке либо она организована, но в корне неправильно и небезопасно. Проблему, вероятно, можно решить платной парковкой — вследствие того, что на Аккурганской сняли трамвайные пути, там освободилось колоссальное количество места, где платную парковку действительно можно было бы организовать.
Рядом с домом уже приходилось спасать закатанные в асфальт стволы деревьев через «Халк назорат». Приехал инспектор, и мы с ним ручками показывали рабочим, сколько нужно от деревьев отступать. К счастью, можно рассчитывать на оперативную реакцию через приложение «Халк назорат». К сожалению, оперативно получается только со случаями, касающимися Минэкологии. В остальных ситуация трудно чего-то добиться.
Например, всё, что касается стихийной парковки на тротуарах, остаётся без внимания. Почти вся Аккурганская подвержена беспорядочной парковке либо она организована, но в корне неправильно и небезопасно. Проблему, вероятно, можно решить платной парковкой — вследствие того, что на Аккурганской сняли трамвайные пути, там освободилось колоссальное количество места, где платную парковку действительно можно было бы организовать.
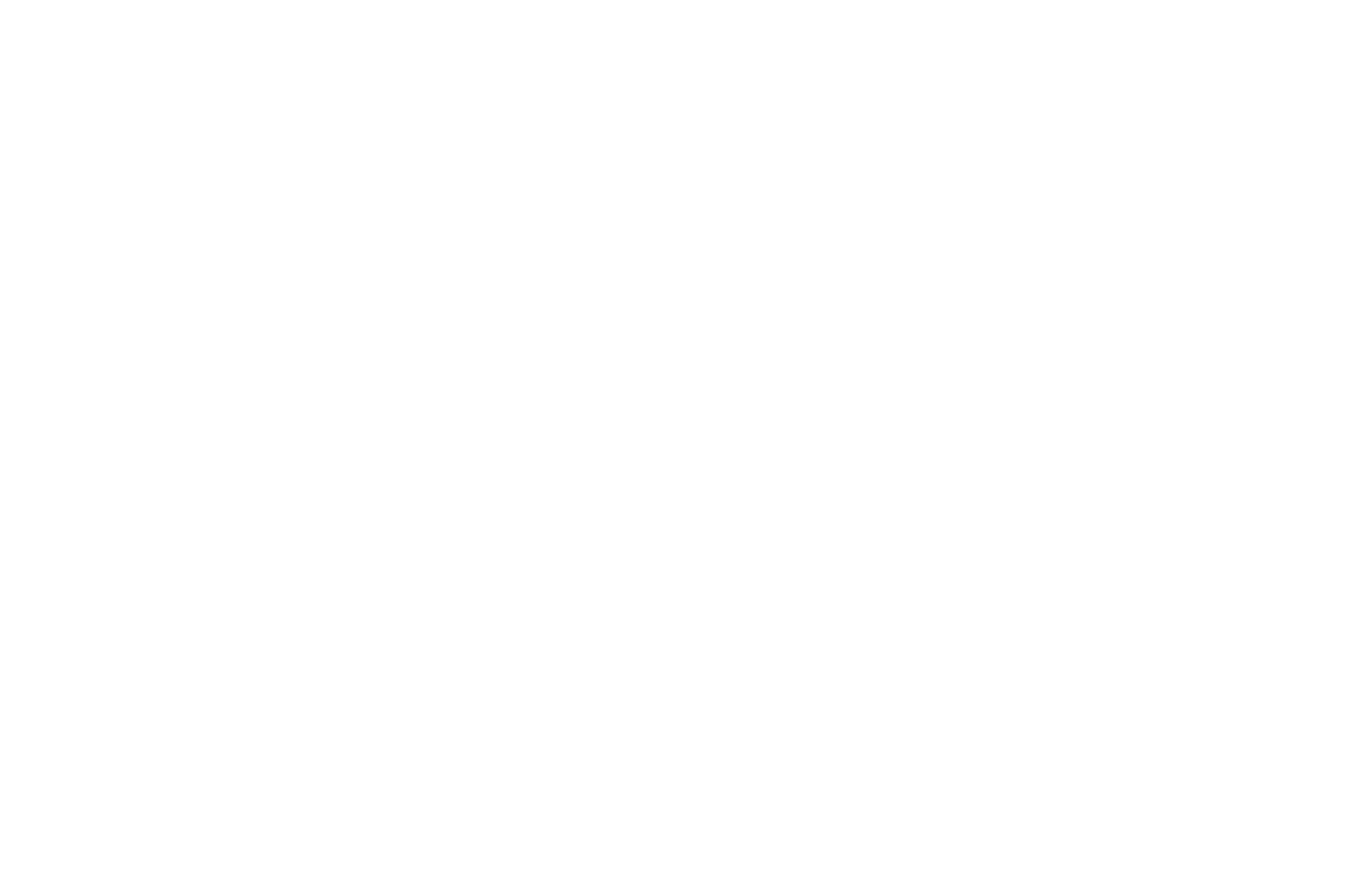
Беспорядочная парковка и те, кто её порождают — водители, которые не в состоянии хоть немного обернуться по сторонам и подумать, мешает ли машина, — просто люто, бешено меня угнетают. Я не знаю, почему это нужно объяснять. Вроде не сверхкогнитивная работа — заметить, что машина мешает пешеходам на тротуаре.
Философский вопрос, на который у меня нет ответа: почему, с одной стороны, мы так много думаем о том, «что скажут соседи», а с другой, так мало думаем, «что соседи скажут на то, что не смогли пройти с коляской по тротуару из-за моей припаркованной машины»?
Философский вопрос, на который у меня нет ответа: почему, с одной стороны, мы так много думаем о том, «что скажут соседи», а с другой, так мало думаем, «что соседи скажут на то, что не смогли пройти с коляской по тротуару из-за моей припаркованной машины»?
Ценность «Газеты» №6
Это вопрос того, что один человек, может быть, неосознанно, но поставил себя выше всех остальных. А другой человек, вернее, группа людей с полномочиями не считают это чрезвычайным обстоятельством, достойным принятия системных мер. Для меня справедливость как концепт и понятие, очень важна. Это несправедливо, что автомобиль собой одним занимает место, которое в течение времени, пока он там стоит, может быть нужно десятку или сотне людей.
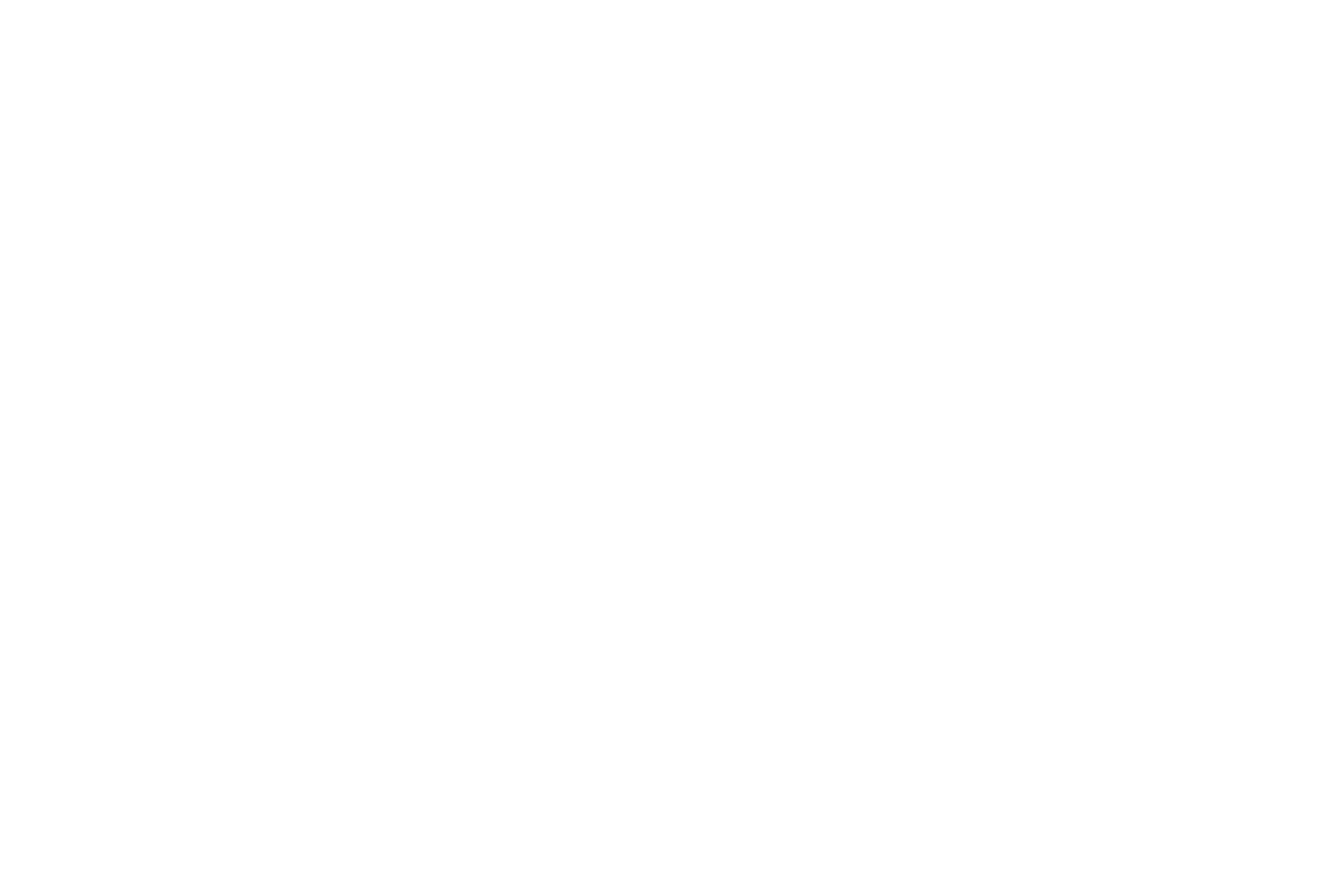
Про изменения в городе
Ташкент очень меняется. Хотелось бы, чтобы город развивался динамично, но более упорядочено. Смущает, что новые здания сажаются на старые коммуникации. Даже если, например, владельцы бизнес-центра строят свой трансформатор, его в любом случае подключают к общим мощностям. Они, конечно, тоже тихо-тихо обновляются, но тем не менее, процесс застройки явно начался гораздо раньше, чем модернизации инфраструктуры.
Нельзя не признать вещи, которые откровенно хороши. Честно скажу, я не верила, что возможно сделать оплату в общественном транспорте полностью электронной, обратить внимание на изношенность подвижного состава и обновить его. В апреле я показывала наши города подругам из Германии и России. Гордилась, что могу девочек провести в ташкентское метро, пару раз ткнув картой, что у нас много транспорта, что он новый.
Меня поразило, что туристы реально ценят характерное для Узбекистана обилие мест, где можно вкусно поесть. Ещё удивило, как сильно мои туристки заинтересовались фестивалем балета, который проходил в Ташкенте в их приезд. Мне казалось, в странах западнее Узбекистана культурный контент доступнее, чем у нас. Девочки выбрали постановку Бориса Эйфмана «Братья Карамазовы» и остались в большом восторге от спектакля и самого здания театра.
Для знакомства с городом я рекомендовала своим гостям лучшего гида по Ташкенту, которого знаю, Рустама Хусанова. Я посетила большую часть его экскурсий, и меня поражает, как много краеведческой информации он выдаёт. Такие вещи я не могла бы найти ни в каком учебнике по истории Узбекистана. Возможно, даже не могла бы услышать от старожилов, потому что вряд ли пошла бы задавать им эти вопросы.
Уверена, на экскурсиях Рустам рассказывает даже не треть того, что мог бы рассказать о Ташкенте, потому что классическая экскурсия включает в себя достаточно большой пласт средневековья. Но у Ташкента есть ещё огромная интересная история XIX-XX веков с динамичными изменениями очертаний города.
Нельзя не признать вещи, которые откровенно хороши. Честно скажу, я не верила, что возможно сделать оплату в общественном транспорте полностью электронной, обратить внимание на изношенность подвижного состава и обновить его. В апреле я показывала наши города подругам из Германии и России. Гордилась, что могу девочек провести в ташкентское метро, пару раз ткнув картой, что у нас много транспорта, что он новый.
Меня поразило, что туристы реально ценят характерное для Узбекистана обилие мест, где можно вкусно поесть. Ещё удивило, как сильно мои туристки заинтересовались фестивалем балета, который проходил в Ташкенте в их приезд. Мне казалось, в странах западнее Узбекистана культурный контент доступнее, чем у нас. Девочки выбрали постановку Бориса Эйфмана «Братья Карамазовы» и остались в большом восторге от спектакля и самого здания театра.
Для знакомства с городом я рекомендовала своим гостям лучшего гида по Ташкенту, которого знаю, Рустама Хусанова. Я посетила большую часть его экскурсий, и меня поражает, как много краеведческой информации он выдаёт. Такие вещи я не могла бы найти ни в каком учебнике по истории Узбекистана. Возможно, даже не могла бы услышать от старожилов, потому что вряд ли пошла бы задавать им эти вопросы.
Уверена, на экскурсиях Рустам рассказывает даже не треть того, что мог бы рассказать о Ташкенте, потому что классическая экскурсия включает в себя достаточно большой пласт средневековья. Но у Ташкента есть ещё огромная интересная история XIX-XX веков с динамичными изменениями очертаний города.
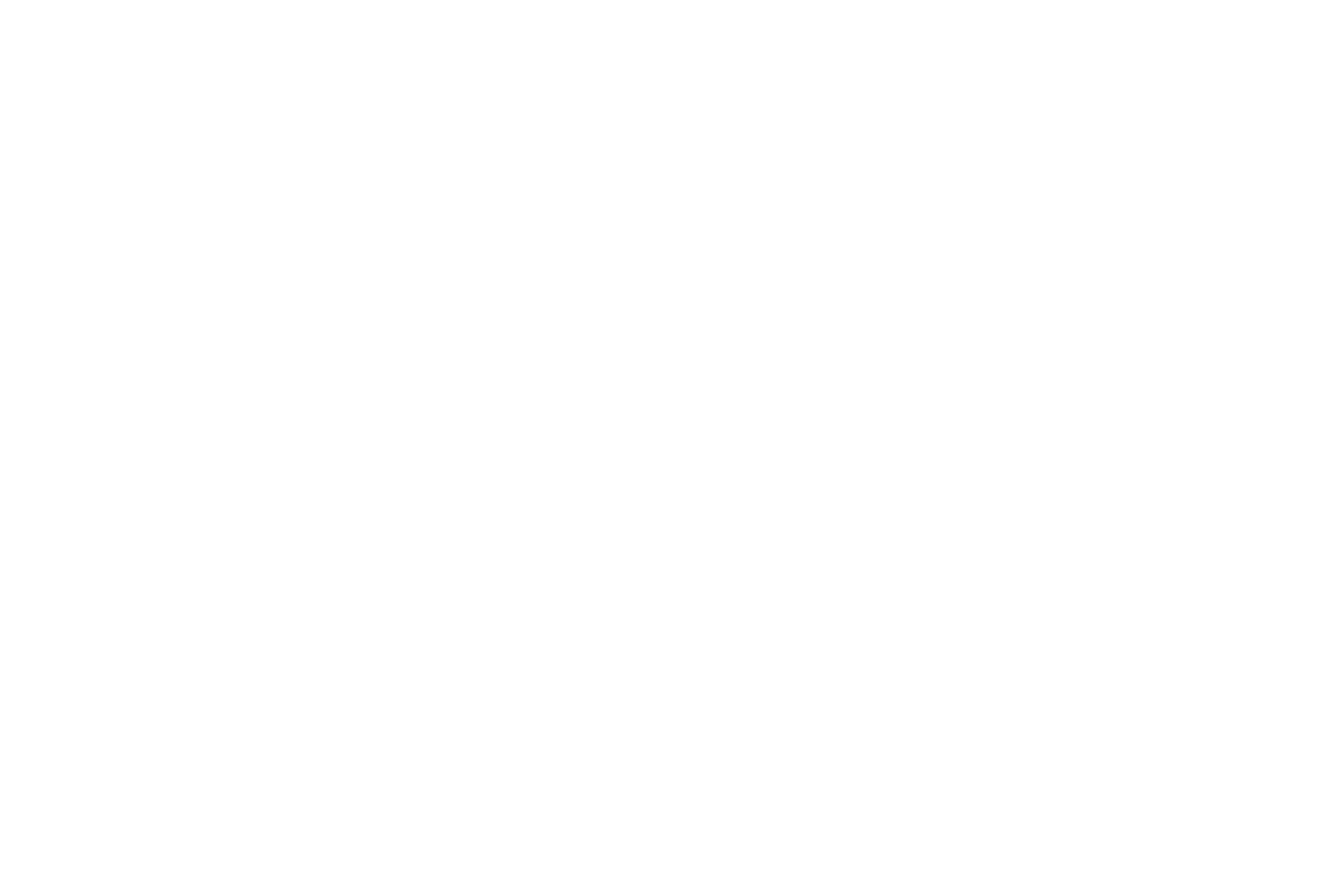
Ташкент я люблю. Мне как-то задавали вопрос, хочу ли я уехать из страны. Иногда, когда бывают откровенно плохие решения — вроде многоуровневых развязок в черте города, преобразования парков в коммерческие объекты — и откровенно плохая ситуация, например, крупные коммунальные аварии, критическое загрязнение воздуха, бывают мысли уехать.
Но Ташкент — все равно мой дом, здесь живут мои близкие. Мне сложно в чужой ментальности. Я — животное территориальное.
Но Ташкент — все равно мой дом, здесь живут мои близкие. Мне сложно в чужой ментальности. Я — животное территориальное.
Ценность «Газеты» №7
У узбекистанцев есть подкупающая душевность, нет озлобленности и агрессии, желания нахамить первому встречному. Думаю, что не смогла бы жить вне этого. Поэтому на заданный мне вопрос ответила, что не хочу переезжать. Хочу внести свой вклад в то, чтобы здесь стало лучше.
Элина Сакаева рекомендует гулять
Элина Сакаева рекомендует послушать
Текст: Сабина Бакаева.
Автор фотографий Евгений Сорочин.
Все права на текст и графические материалы принадлежат изданию Gazeta. С условиями использования материалов, размещённых на сайте интернет-издания Gazeta, можно ознакомиться по ссылке.
Знаете что-то интересное и хотите поделиться этим с миром? Пришлите историю на sp@gazeta.uz




