Сталинский ампир в Ташкенте
Как торжественность архитектуры повлияла на облик города
Сталинский ампир — один из самых узнаваемых архитектурных стилей XX века, возникший как политический инструмент. В обзоре для «Газеты» исследовательница Рушена Семиногова рассматривает его локальную специфику и влияние на визуальную идентичность Ташкента и других городов Узбекистана.
Сталинский ампир — один из самых узнаваемых архитектурных стилей XX века, возникший как политический инструмент. В обзоре для «Газеты» исследовательница Рушена Семиногова рассматривает его локальную специфику и влияние на визуальную идентичность Ташкента и других городов Узбекистана.
Архитектура — это не только стены и крыши. Это форма памяти, в которой закрепляются идеи своего времени. В ХХ веке одной из самых узнаваемых форм в Советском Союзе стал сталинский ампир — архитектурный стиль, соединяющий торжественные формы классицизма с задачами государства: демонстрировать порядок, мощь и уверенность в будущем.
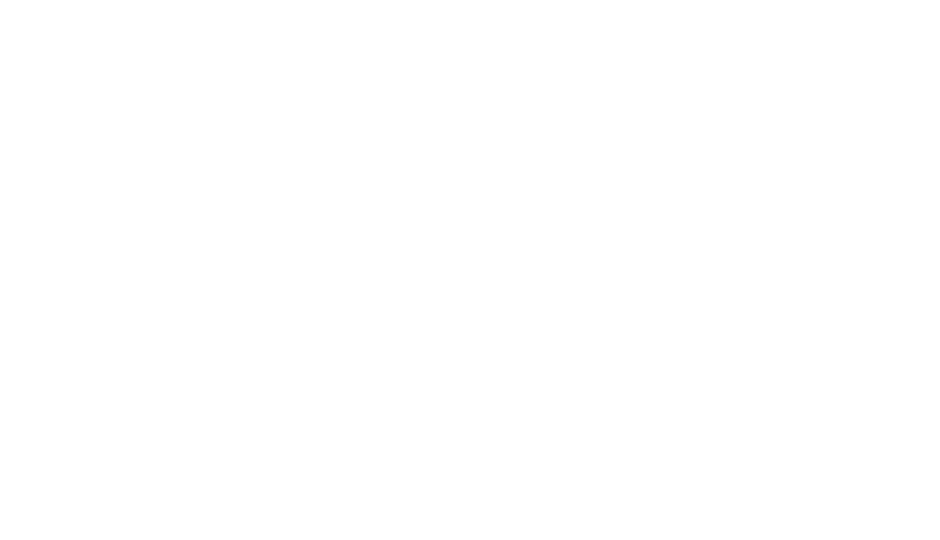
Ташкент, 1947 год. Ансамбль жилых домов на улице Шота Руставели.
Архитекторы: А. Беспрозванный и М. Шаронов (1938 год).
Автор фото: М. Гер.
Архитекторы: А. Беспрозванный и М. Шаронов (1938 год).
Автор фото: М. Гер.
В Ташкенте этот стиль не просто прижился — он стал важной частью образа города. В 30-е, 40-е и 50-е здесь появились десятки зданий с высокими портиками, лепными фронтонами, массивными лестницами и симметричными фасадами. В жарком климате, среди тенистых улиц и арыков, эти здания выглядели особенно величественно. И сегодня они узнаются с первого взгляда: по ордерной строгости, вниманию к деталям и особой «сценичности» городского пространства, которое они формируют.
Стиль амбиций и вертикали: сталинский ампир в СССР
Сталинский ампир появился в 1930-х и достиг своего расцвета в 1940–1950-х годах. Это был стиль, который говорил языком классической архитектуры, но вкладывал в эти формы современный смысл. Такие здания не просто должны были быть красивыми. Было важно, чтобы они производили впечатление, формировали поведение, говорили с горожанами от имени власти.
Основу стиля составляли заимствования из академического неоклассицизма: чёткая композиция, соразмерность, крупный ордер, выразительные входные группы. При этом активно использовались новейшие материалы того времени.
Основу стиля составляли заимствования из академического неоклассицизма: чёткая композиция, соразмерность, крупный ордер, выразительные входные группы. При этом активно использовались новейшие материалы того времени.
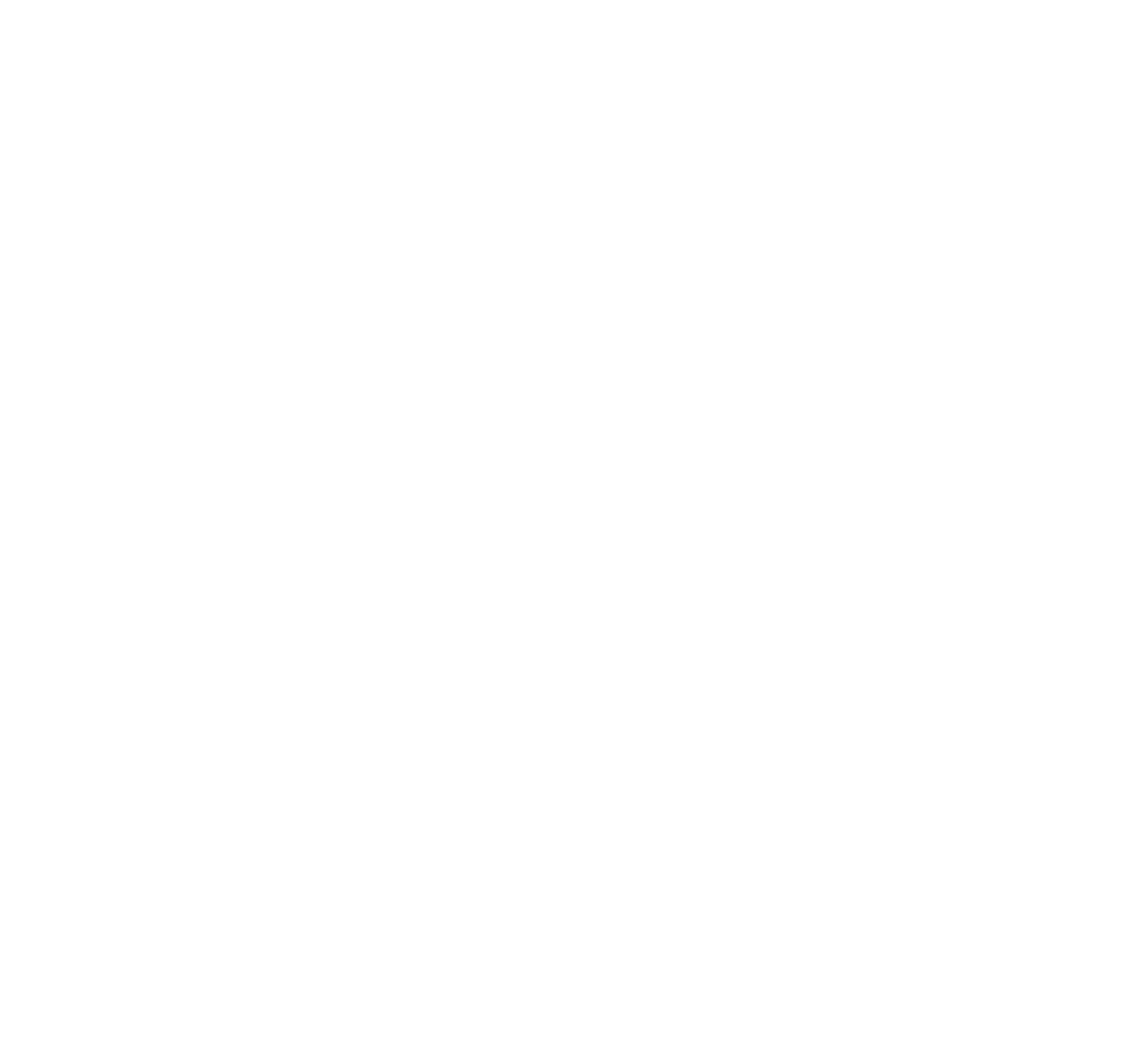
Здание МГУ на Воробьёвых горах, 1958 год.
Источник: РИА «Новости».
Источник: РИА «Новости».
Символом сталинского ампира стали московские «высотки» — семь башен, выстроенных в конце 1940-х – начале 1950-х годов. Самая известная — здание МГУ на Воробьёвых горах (арх. Борис Иофан, Лев Руднев и др.). Именно с московских образцов началась волна строительства по всему Союзу в схожей эстетике: монументальной, но с региональными оттенками. Для республик, в том числе Узбекистана, эта эстетика принимала особый вид. Это было не просто копирование «столичного» языка, а его адаптация к климату, традициям и локальному городскому опыту.
Проектирование шло централизованно. Москва утверждала не только концепции, но и типовые решения. Однако на практике появлялось всё больше местных инициатив, и именно они часто оказывались самыми выразительными.
Проектирование шло централизованно. Москва утверждала не только концепции, но и типовые решения. Однако на практике появлялось всё больше местных инициатив, и именно они часто оказывались самыми выразительными.
реклама
реклама
Локальный синтез и художественная адаптация
Сталинский ампир в Узбекистане — это не просто заимствованный стиль из Москвы. Хотя он возник как часть общей государственной идеологии, здесь он приобрёл свои особенности. Архитекторы копировали формы, но также старались соединить классику с местными традициями: узорами, материалами, масштабом.
Например, использование светлых облицовочных материалов было связано не только с эстетикой, но и с практикой отражения солнечного тепла. Широкие карнизы, лоджии, сквозные галереи выполняли климатическую функцию защиты от перегрева. В фасадную пластику нередко включались решетчатые экраны (панджара), восходящие к традиционной архитектуре махалли. Поэтому здания сталинской эпохи в Узбекистане выглядят не как чужеродные, а как часть местной архитектурной ткани.
Например, использование светлых облицовочных материалов было связано не только с эстетикой, но и с практикой отражения солнечного тепла. Широкие карнизы, лоджии, сквозные галереи выполняли климатическую функцию защиты от перегрева. В фасадную пластику нередко включались решетчатые экраны (панджара), восходящие к традиционной архитектуре махалли. Поэтому здания сталинской эпохи в Узбекистане выглядят не как чужеродные, а как часть местной архитектурной ткани.
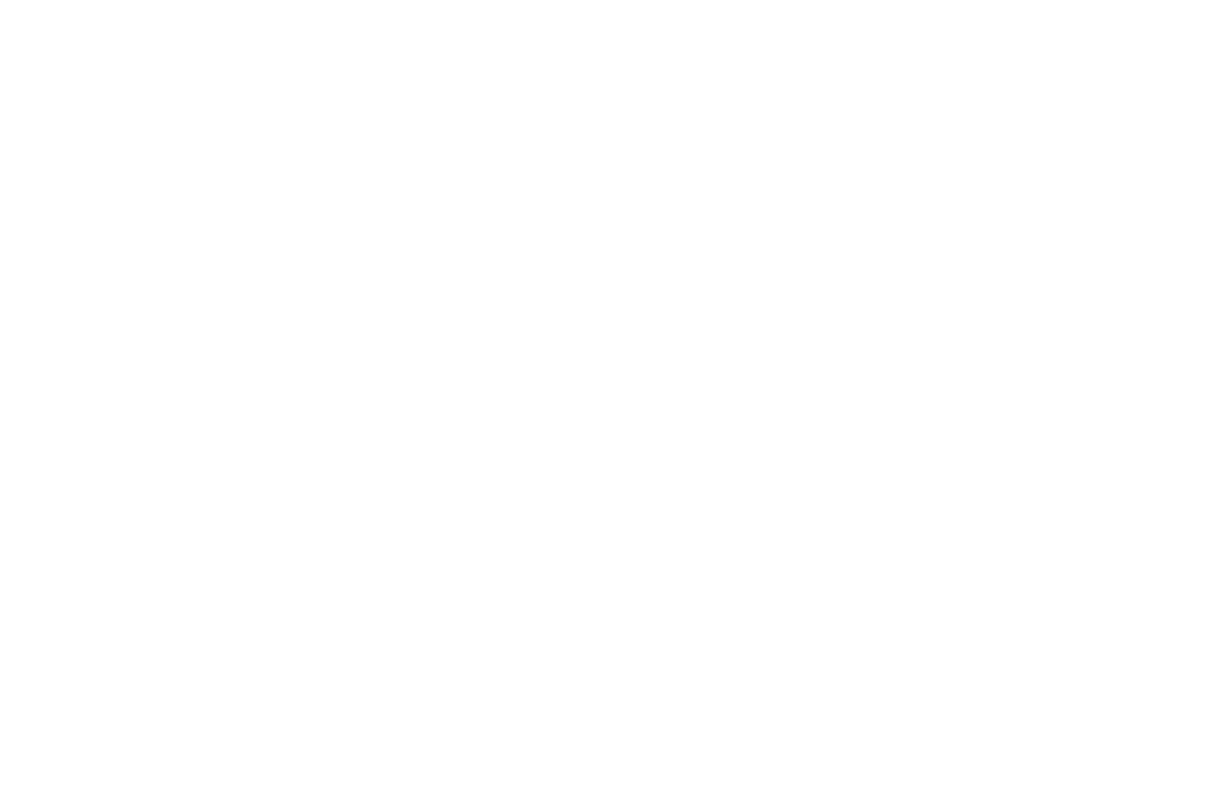
Дворец культуры железнодорожников в Ташкенте. Архитектор: А. Павлов (1939 г.).
Фото: Г. Гер, декабрь 1940 г.
Фото: Г. Гер, декабрь 1940 г.
В декоративной отделке зданий сталинского периода в Узбекистане можно проследить внедрение майолики, сталактитовых сводов (мукарнасов), цветных орнаментов, мотивов тимпанов и айванов, характерных для исламской архитектуры региона. Эти элементы не воспринимались как стилистическое «украшательство», а становились частью идеологически важного нарратива о «дружбе народов» и культуре, «пролетарской по своему содержанию, национальной по форме».
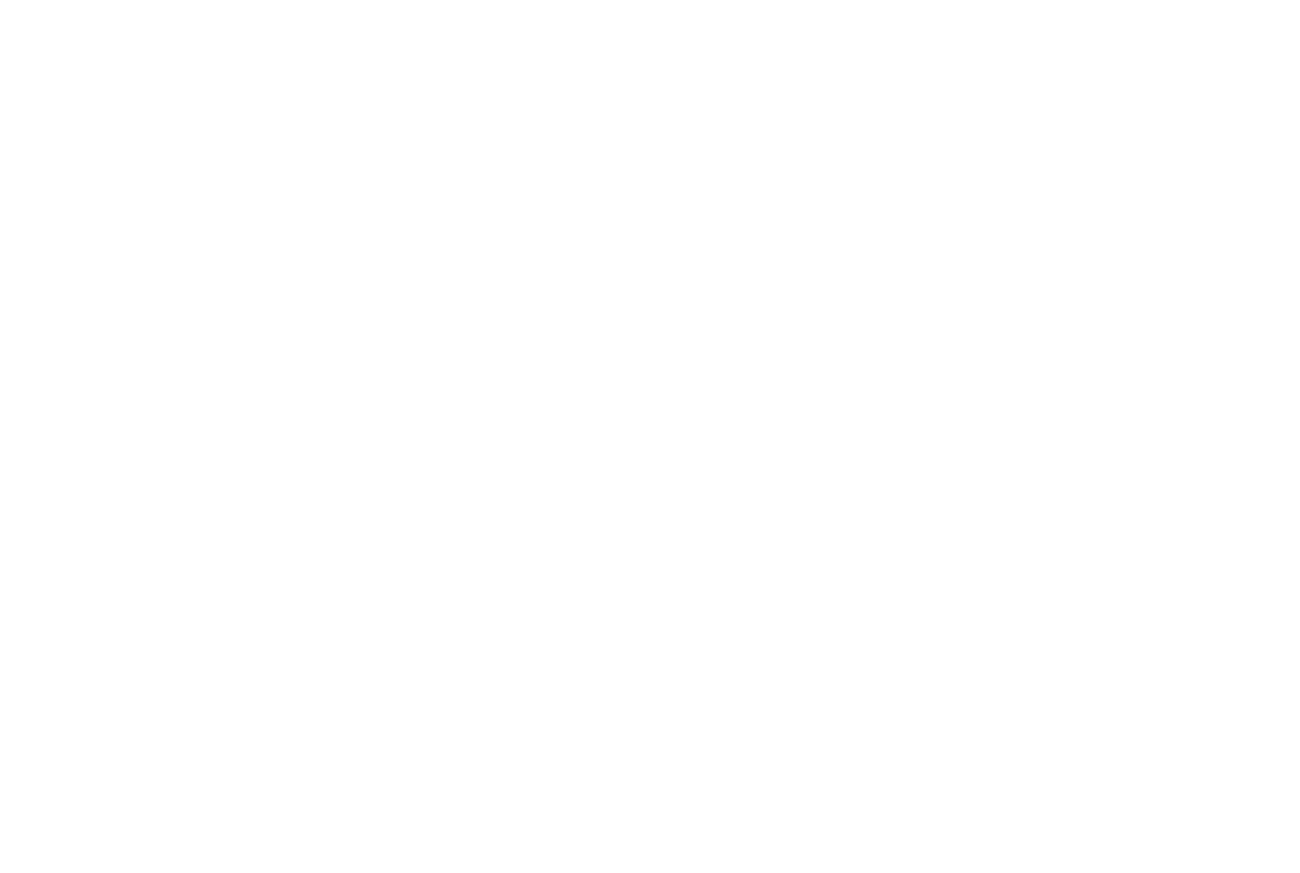
Ташкент, 1937-1939 гг. Ограждение у кинотеатра «Ватан» («Родина») по улице Навои.
Архитекторы проекта кинотеатра: А. Сидоров и Н. Тимофеев.
Архитекторы проекта кинотеатра: А. Сидоров и Н. Тимофеев.
В проектировании и строительстве участвовали как приглашённые архитекторы, направленные для кураторства крупных объектов, так и местные специалисты, окрепшие после окончания ташкентского архитектурного факультета Среднеазиатского политехнического института (позднее — Ташкентского архитектурно-строительного института). Среди них — А. А. Мухамедшин, Б. Г. Трофимов, М. С. Булатов, Л. Г. Караш, В. Г. Архангельский и другие. Многие из них формировали целые стилистические школы.
Немаловажно, что большая часть застройки в духе сталинского ампира в Узбекистане приходилась не только на столицу, но и на крупные индустриальные центры и города: Самарканд, Фергану, Коканд, Чирчик, Ангрен и другие. Здесь можно встретить ведомственные санатории, Дома культуры, вокзалы и административные здания, оформленные в стиле ампир.
Ранний ампир
1930-е
1930-е
Поиск выразительности в строгих рамках
Первые постройки 1930-х годов ещё не достигли пышности зрелого ампира, но уже демонстрировали отход от конструктивизма. Их главным качеством была выразительная сдержанность: строгие формы, симметрия, первые попытки придать зданию «государственное лицо».
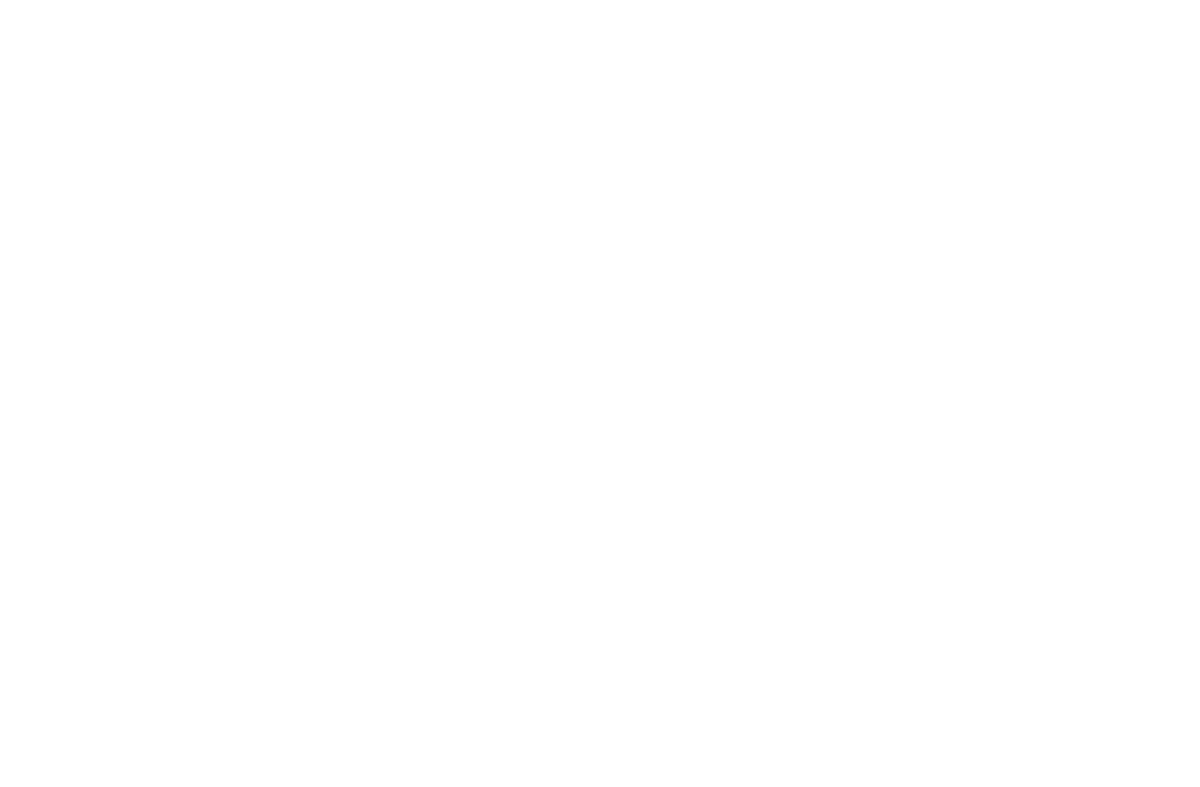
«Дом специалистов» на Урде. Ул. Навои, 1941 г. Архитектор: И. Павлов (1934 год).
Источник: Проект Tashkent Retrospective.
Источник: Проект Tashkent Retrospective.
Дом специалистов по улице Навои (1934, арх. И. Павлов) был одним из первых домов, рассчитанных на научную и техническую элиту. Это не просто жильё, а статусное пространство с высокими потолками, продуманной планировкой, внутренним двором. Здесь архитектура служит социальной иерархии: фасад не пышный, но говорит о важности тех, кто здесь живёт.
Здание управления «Средазуголь» (1937, арх. А. Сидоров) решает совсем другую задачу — создать административный символ растущей индустрии. Здесь нет театральных жестов, но уже ощущается масштаб: ступенчатая структура, симметрия, строгий ритм окон. Уникально то, как здание соединяет административную функцию с лаконичной торжественностью.
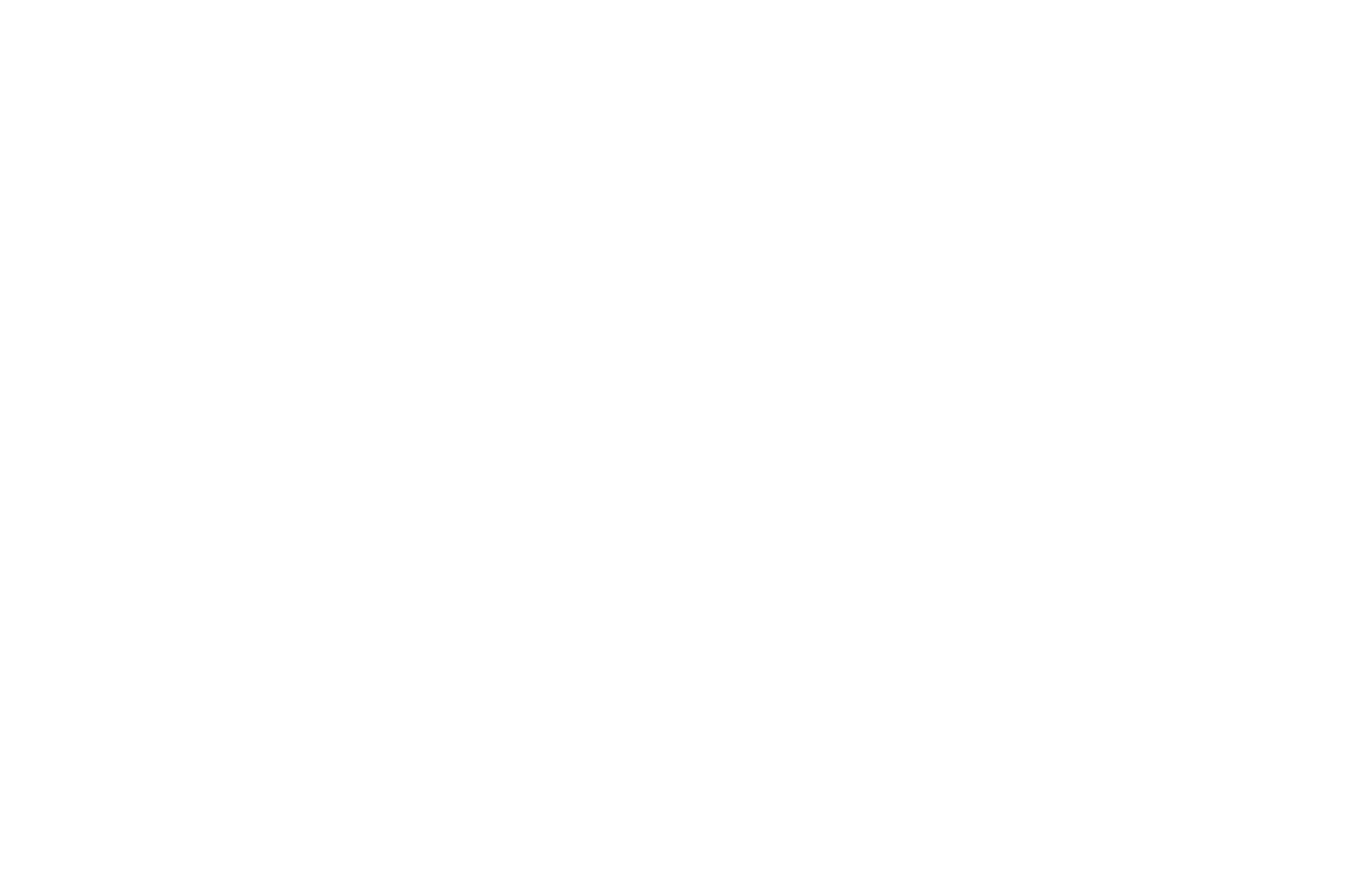
Ташкент, 1957 год. Поликлиника Текстильного комбината. Архитектор: К. Бабиевский (1932 г.).
Автор фото: Я. М. Босин. Источник: книга-альбом «Зодчество Узбекистана».
Автор фото: Я. М. Босин. Источник: книга-альбом «Зодчество Узбекистана».
Поликлиника текстильного комбината (1932, арх. К. Бабиевский), напротив, несёт на себе отпечаток заботы. Построенная для работников текстильной отрасли, она выглядела не как типовая поликлиника, а как павильон на курорте.
Лоджия с колоннами, арочные коридоры, широкие холлы — всё говорило о том, что трудящиеся заслуживают не только лечения, но и уважения. Здание до сих пор воспринимается как редкий пример социальной архитектуры с человеческим лицом.
Зрелый ампир
1940-е
1940-е
Эстетика величия
В 1940-х годах стиль сталинского ампира достигает своей зрелости. Здания этого времени максимально концентрируют черты имперской архитектуры. Они являют собой постановочные декорации эпохи, в которые заложен символический смысл.
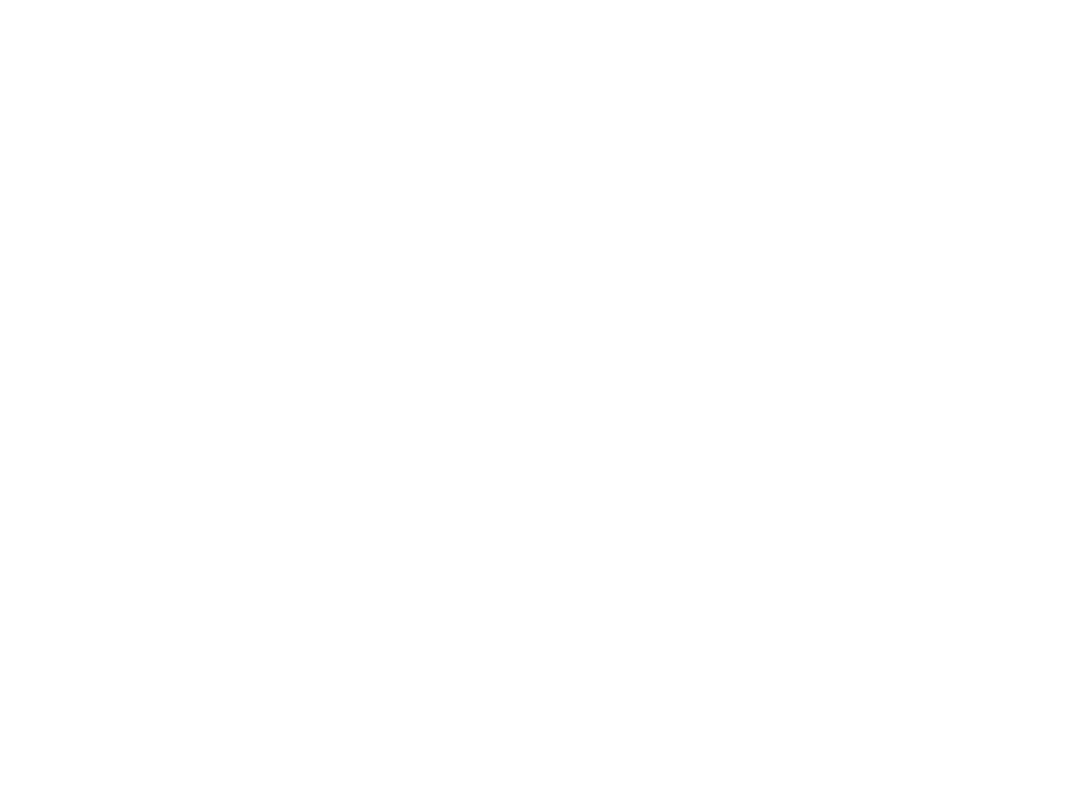
Дворец культуры текстильщиков. Архитекторы: А. Галкин, А. Карнаухов (1940 г.).
Дворец культуры текстильщиков (1940, арх. А. Галкин, А. Карнаухов). Дата постройки здания разнится в разных источниках. В этой статье указан год из энциклопедии «Ташкент» 1983 года выпуска.
Архитектура здания проста и лаконична, ее членение основано на классических принципах. Полукруглая линия фасада оформляет угловую площадь. Применение плоской кровли с пергалой, балконов и лоджий свидетельствует о стремлении авторов связать архитектуру с условиями жизни в жарком климате.
Архитектура здания проста и лаконична, ее членение основано на классических принципах. Полукруглая линия фасада оформляет угловую площадь. Применение плоской кровли с пергалой, балконов и лоджий свидетельствует о стремлении авторов связать архитектуру с условиями жизни в жарком климате.
Государственный академический Большой театр оперы и балета имени Алишера Навои (1947, арх. А. В. Щусев) — безусловная доминанта стиля. В плане — прямоугольник с массивным портиком. Колоннада напоминает римские храмы, но портал оформлен восточным орнаментом. В отделке интерьеров использованы мотивы из разных регионов Узбекистана.
Ташкентские куранты (1947, арх. А. Мухамедшин) — монумент в духе символики времени. Башня снабжена часами и звонницей, оформлена в строгой вертикальной композиции. Хотя объект скромен по масштабу, он абсолютно вписан в стилистику ампира — строгая симметрия, выраженный силуэт, вертикаль как символ ритма и контроля.
Этот период завершает эпоху ампира в полной мере — торжественно, с размахом, но уже на пороге трансформации.
Поздний ампир и переход к модернизму
(1950–1959)
(1950–1959)
Размывание канона
Пятилетка 1950–1955 годов стала завершением зрелого этапа сталинского ампира — временем, когда стиль начал терять декоративную насыщенность, но ещё сохранял масштабность и представительность. Архитектура этих лет балансировала между идеологической торжественностью 1940-х и наступающей функциональностью хрущёвской эпохи.
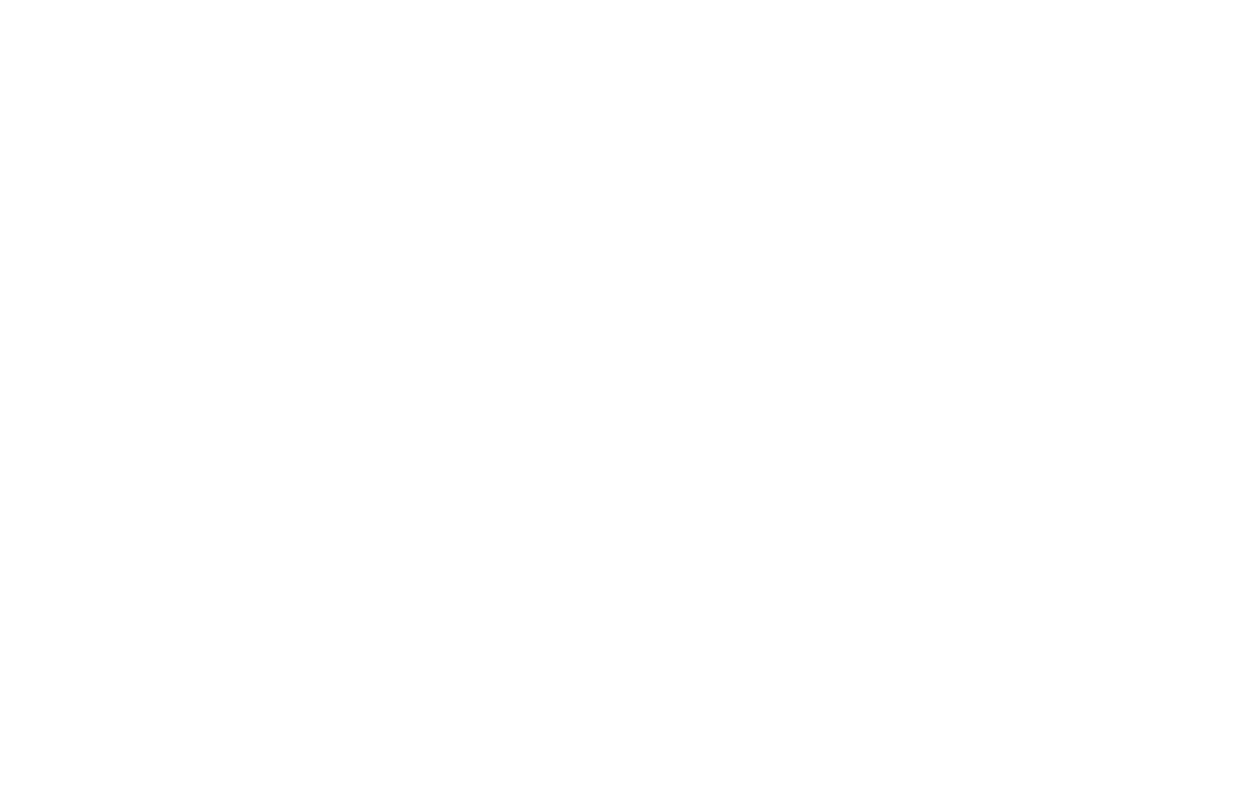
Здание Чирчикстроя, 1957 год.
Фото: Я. Босин (скан с открытки Юрия Новикова).
Фото: Я. Босин (скан с открытки Юрия Новикова).
С выходом постановления ЦК КПСС от 4 ноября 1955 года «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве» архитектурная политика резко меняется. Государство требует экономичности и функциональности. Формы упрощаются, лепной декор исчезает, монументальность становится более сдержанной. Но инерция ампира продолжает существовать ещё несколько лет.
Здание управления треста «Чирчикстрой» (1950, арх. В. Архангельский) было построено как административный центр для координации крупнейших промышленных строек. Его фасад сочетает строгость ампира с индустриальной функциональностью — крупные проёмы, симметрия, минимум декора. Сегодня здание частично сохранилось и рассматривается для перепрофилирования, что делает его примером потенциальной адаптации наследия сталинской эпохи.
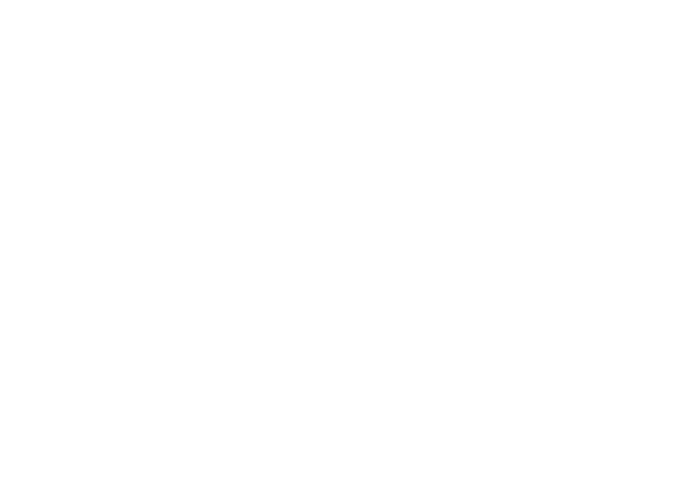
Поликлиника МВД.
Источник: Проект Tashkent Retrospective.
Источник: Проект Tashkent Retrospective.
Поликлиника МВД (1954, арх. Б. Трофимов) — здание, чей фасад украшали пилястры, входная группа решена в виде арочной лоджии, внутренние помещения имели своды и кессоны. Сегодня здание снесено. Его исчезновение стало одной из символических утрат позднего ампира в Ташкенте.
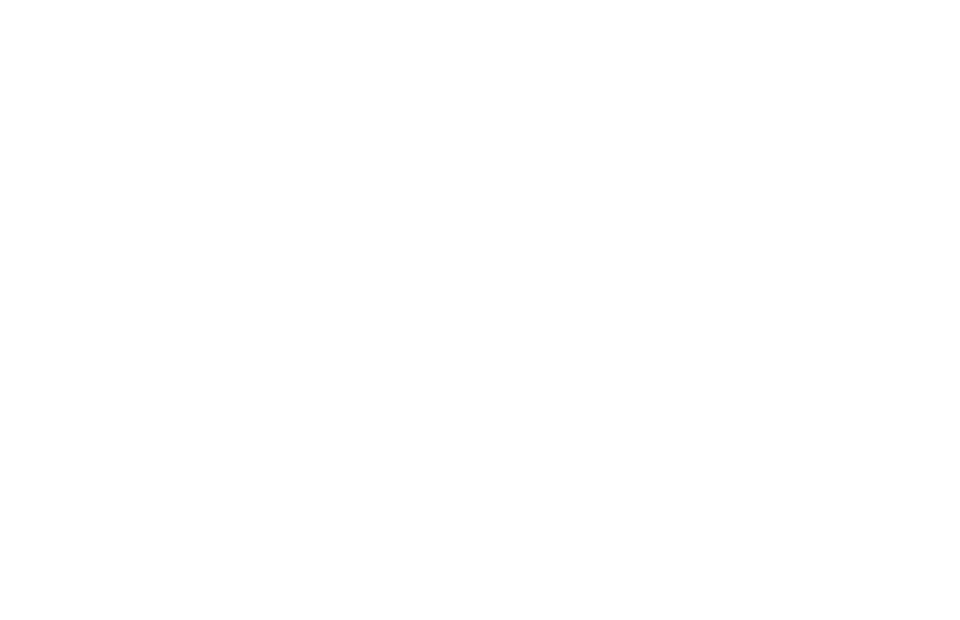
Гостиница «Ташкент», 1958 г. Архитекторы: М. С. Булатов, Л. Г. Караш.
Источник: Википедия.
Источник: Википедия.
Гостиница «Ташкент» (1958, арх. М. Булатов, Л. Караш, В. Левченко) — поздний пример ампира, уже с чертами функционализма. Здание лишено пышной лепнины, но сохраняет строгую симметрию, пластичность фасада и парадную композицию. Это своего рода компромисс между «старым величием» и новым курсом на стандартизацию.
Таким образом, в конце 1950-х годов сталинский ампир в Узбекистане завершает своё развитие. Он уступает место советскому модернизму, но его наследие продолжает жить в силуэтах городов и памяти горожан.
реклама
реклама
Ностальгия как градостроительный индикатор
Любая эпоха оставляет после себя не только здания, но и пустоты. Архитектура сталинского времени в Ташкенте, несмотря на масштаб своего влияния, оказалась подвержена быстрой утрате. Одним из самых показательных случаев стало уничтожение поликлиники МВД (1954, арх. Б. Трофимов), которое широко известно как «здание СНБ».
Несмотря на удовлетворительное состояние, оно было признано устаревшим и уступило место коммерческой застройке, которая, если верить проекту, напоминает, как ни странно, самую известную московскую «высотку» — МГУ. Вместе со снесённым зданием исчезла и часть ансамбля, в котором важен был контекст — то, как оно вписывалось в ритм улицы, как завершало перспективу квартала.
Несмотря на удовлетворительное состояние, оно было признано устаревшим и уступило место коммерческой застройке, которая, если верить проекту, напоминает, как ни странно, самую известную московскую «высотку» — МГУ. Вместе со снесённым зданием исчезла и часть ансамбля, в котором важен был контекст — то, как оно вписывалось в ритм улицы, как завершало перспективу квартала.
Причины сносов хорошо известны. Среди них — признание зданий не отвечающими современным нормам безопасности, давление со стороны коммерческого строительства, стремление к обновлению городского облика. Но куда менее очевидна цена этих решений: утрата архитектурной преемственности. Современная застройка редко стремится вступить в диалог с прошлым, предпочитая начинать с чистого листа.
Снос сталинской архитектуры в Ташкенте нельзя рассматривать исключительно как удаление эстетически или функционально устаревших построек. Речь идёт о разрушении целых фрагментов исторической городской структуры, которая формировалась в течение десятилетий. Здания ампира были не изолированными объектами, а частью связной среды — визуальной, транспортной, функциональной. Их удаление нарушает логику городских пространств: исчезают ориентиры, стирается масштаб улиц, прерываются ансамбли.
Снос сталинской архитектуры в Ташкенте нельзя рассматривать исключительно как удаление эстетически или функционально устаревших построек. Речь идёт о разрушении целых фрагментов исторической городской структуры, которая формировалась в течение десятилетий. Здания ампира были не изолированными объектами, а частью связной среды — визуальной, транспортной, функциональной. Их удаление нарушает логику городских пространств: исчезают ориентиры, стирается масштаб улиц, прерываются ансамбли.
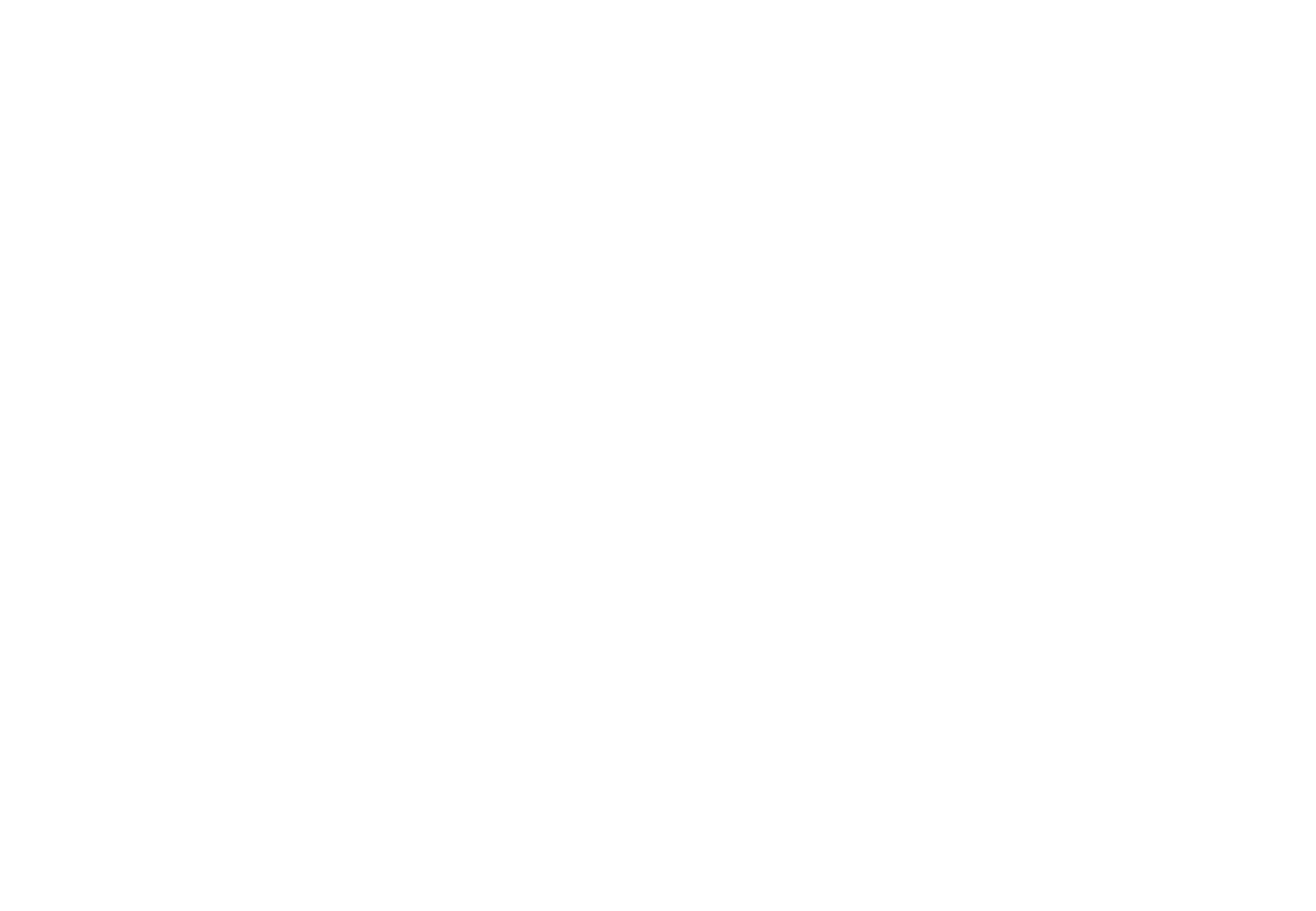
Вход в парк имени Сталина у Комсомольского озера. Архитектор: И. Голощапов, 1939 год.
Источник: «Ташкент» / С. Полупанов, Ю. Яралов (1949 г.).
Источник: «Ташкент» / С. Полупанов, Ю. Яралов (1949 г.).
В этом контексте ностальгия по сталинскому ампиру — не только эмоциональная реакция. Она может и должна рассматриваться как градостроительный индикатор. Коллективная привязанность к этим зданиям свидетельствует о том, что они успели встроиться в городскую идентичность.
Во многих городах постсоветского пространства это осознание уже пришло. В Тбилиси, Ереване, Минске, Алматы и Киеве отдельные здания сталинского периода взяты под охрану как памятники архитектуры. Люди радеют за их сохранение.
В Ереване, например, восстановлен южный фасад железнодорожного вокзала (1956, арх. Э. Тигранян), и здание активно используется, сохраняя статус важного архитектурного символа.
В Тбилиси на проспекте Агмашенебели сохраняются несколько жилых и административных зданий 1940–50-х годов с элементами ампира, проходящих через фазу реставрации в рамках программы ревитализации центра.
В Алматы Дом Правительства (1950-е гг., арх. Б.Р. Рубаненко) отреставрирован и переоборудован под нужды Казахстанско-Британского технического университета.
Во многих городах постсоветского пространства это осознание уже пришло. В Тбилиси, Ереване, Минске, Алматы и Киеве отдельные здания сталинского периода взяты под охрану как памятники архитектуры. Люди радеют за их сохранение.
В Ереване, например, восстановлен южный фасад железнодорожного вокзала (1956, арх. Э. Тигранян), и здание активно используется, сохраняя статус важного архитектурного символа.
В Тбилиси на проспекте Агмашенебели сохраняются несколько жилых и административных зданий 1940–50-х годов с элементами ампира, проходящих через фазу реставрации в рамках программы ревитализации центра.
В Алматы Дом Правительства (1950-е гг., арх. Б.Р. Рубаненко) отреставрирован и переоборудован под нужды Казахстанско-Британского технического университета.
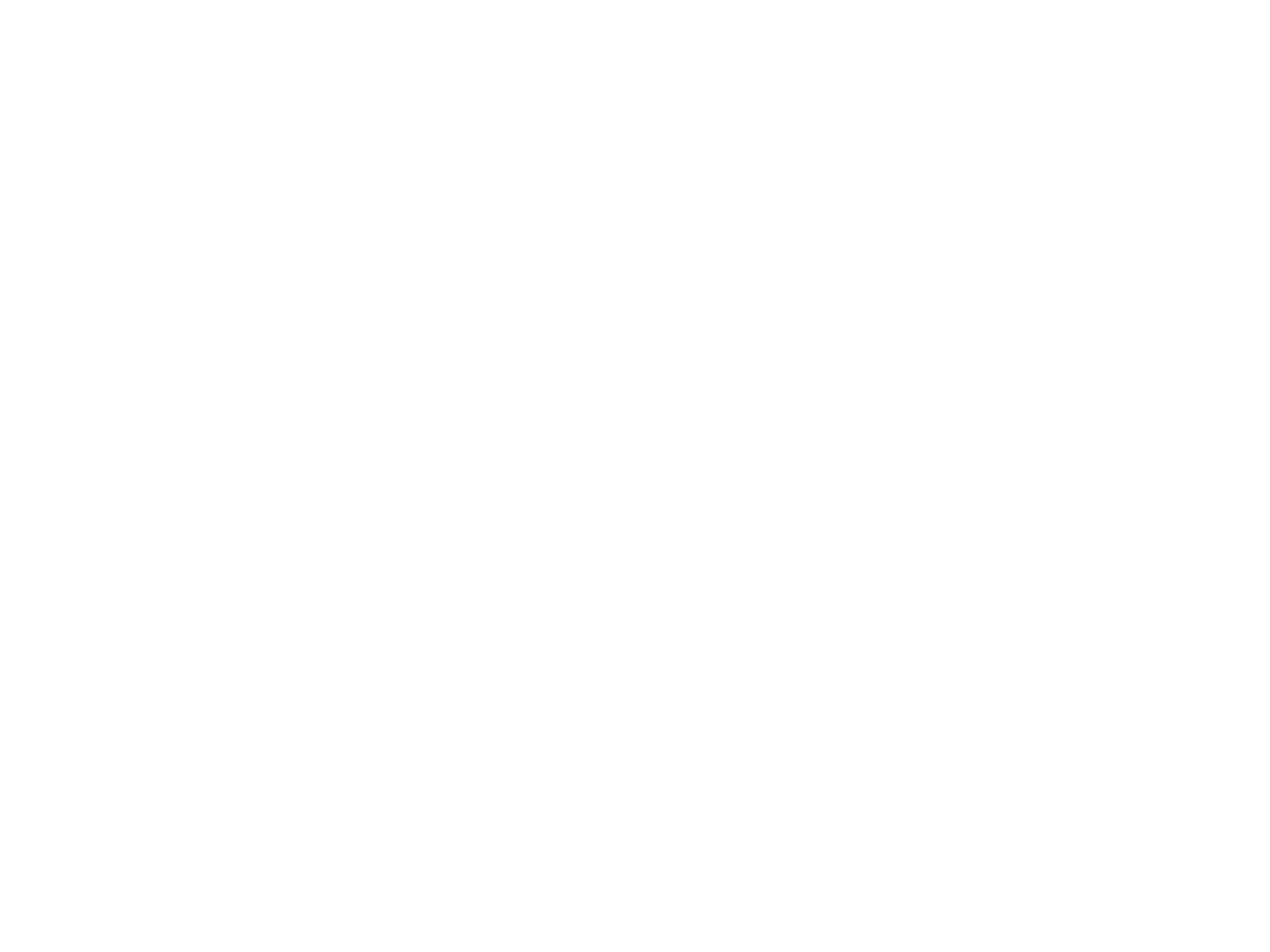
Казахстанско-Британский технический университет в Алматы (бывший Дом правительства).
Фото: Рушена Семиногова.
Фото: Рушена Семиногова.
Такие примеры показывают, что сталинская архитектура может успешно интегрироваться в современную жизнь города, оставаясь опорной точкой городской памяти и визуальной преемственности.
Текст подготовила Рушена Семиногова.
Автор фотографий: Евгений Сорочин.
В материале использованы фото автора и снимки из открытых источников.
Все права на текст и графические материалы принадлежат изданию Gazeta. С условиями использования материалов, размещённых на сайте интернет-издания Gazeta, можно ознакомиться по ссылке.
Знаете что-то интересное и хотите поделиться этим с миром? Пришлите историю на sp@gazeta.uz


