Фото: Абдумавлон Мадмусаев
Музыка махаллей
Прогулка по Ташкенту с директором ГАБТа Алибеком Кабдурахмановым
«Газета» продолжает проект «Музыка махаллей» в сотрудничестве с Yandex Music. В этом выпуске мы гуляем по Ташкенту с директором Государственного академического Большого театра имени А. Навои Алибеком Кабдурахмановым. Мы поговорили с ним о назначении и планах на сезон, вспомнили 90-е и помечтали об идеальном Ташкенте.
«Газета» продолжает проект «Музыка махаллей» в сотрудничестве с Yandex Music. В этом выпуске мы гуляем по Ташкенту с директором Государственного академического Большого театра имени А. Навои Алибеком Кабдурахмановым. Мы поговорили с ним о назначении и планах на сезон, вспомнили 90-е и помечтали об идеальном Ташкенте.
Алибека Кабдурахманова многие узбекистанцы, включая меня, называют своим самым любимым дирижёром. Руководитель Национального симфонического оркестра Узбекистана не боится плыть против течения, быть непонятым, попасть под шквал критики и хейта. В свободном, открытом, смелом человеке, который на сцене шутит, ведёт себя непосредственно, люди видят своего.
В конце июля стало известно, что Кабдурахманов возглавил Государственный академический Большой театр имени А. Навои. Мы встретились с новым директором в его 26-й день в должности. Разговор начали в торжественной обстановке кабинета с огромным креслом, массивным столом и прочими атрибутами, указывающими на важность места и человека. Продолжили, прогуливаясь по театральной площади и бульвару «Голубые купола» — пройти более длинным маршрутом не позволила разыгравшаяся в центре пыльная буря и плотный рабочий график Алибека. Сразу после интервью он вернулся в театр, который перед началом сезона похож на кипящий котёл.
В конце июля стало известно, что Кабдурахманов возглавил Государственный академический Большой театр имени А. Навои. Мы встретились с новым директором в его 26-й день в должности. Разговор начали в торжественной обстановке кабинета с огромным креслом, массивным столом и прочими атрибутами, указывающими на важность места и человека. Продолжили, прогуливаясь по театральной площади и бульвару «Голубые купола» — пройти более длинным маршрутом не позволила разыгравшаяся в центре пыльная буря и плотный рабочий график Алибека. Сразу после интервью он вернулся в театр, который перед началом сезона похож на кипящий котёл.
О назначении и новой должности
28-го июля я уснул дирижёром [Национального симфонического оркестра Узбекистана], а 29-го проснулся директором Большого театра. Это было очень неожиданно, хотя где-то в глубине души предполагал, что такое возможно, и лет в 60-70, когда я стану глохнуть и мышцы будут уже не те, займу какое-то директорское кресло, чтобы хоть как-то приносить пользу обществу и стране.
Назначение дало мне почувствовать ответственность, какую я никогда в жизни не чувствовал. Из разряда творческой личности, который позволял надеть косуху на концерт, я перешёл в категорию руководящих лиц с совсем другими обязанностями и задачами. Директор театра — это тот человек, который решает насущные проблемы. Нужно смотреть, как люди укладывают плитку, делают отопление, следить, как обеспечивают весь технический персонал моющими средствами, спецодеждой и т.д.
Назначение дало мне почувствовать ответственность, какую я никогда в жизни не чувствовал. Из разряда творческой личности, который позволял надеть косуху на концерт, я перешёл в категорию руководящих лиц с совсем другими обязанностями и задачами. Директор театра — это тот человек, который решает насущные проблемы. Нужно смотреть, как люди укладывают плитку, делают отопление, следить, как обеспечивают весь технический персонал моющими средствами, спецодеждой и т.д.
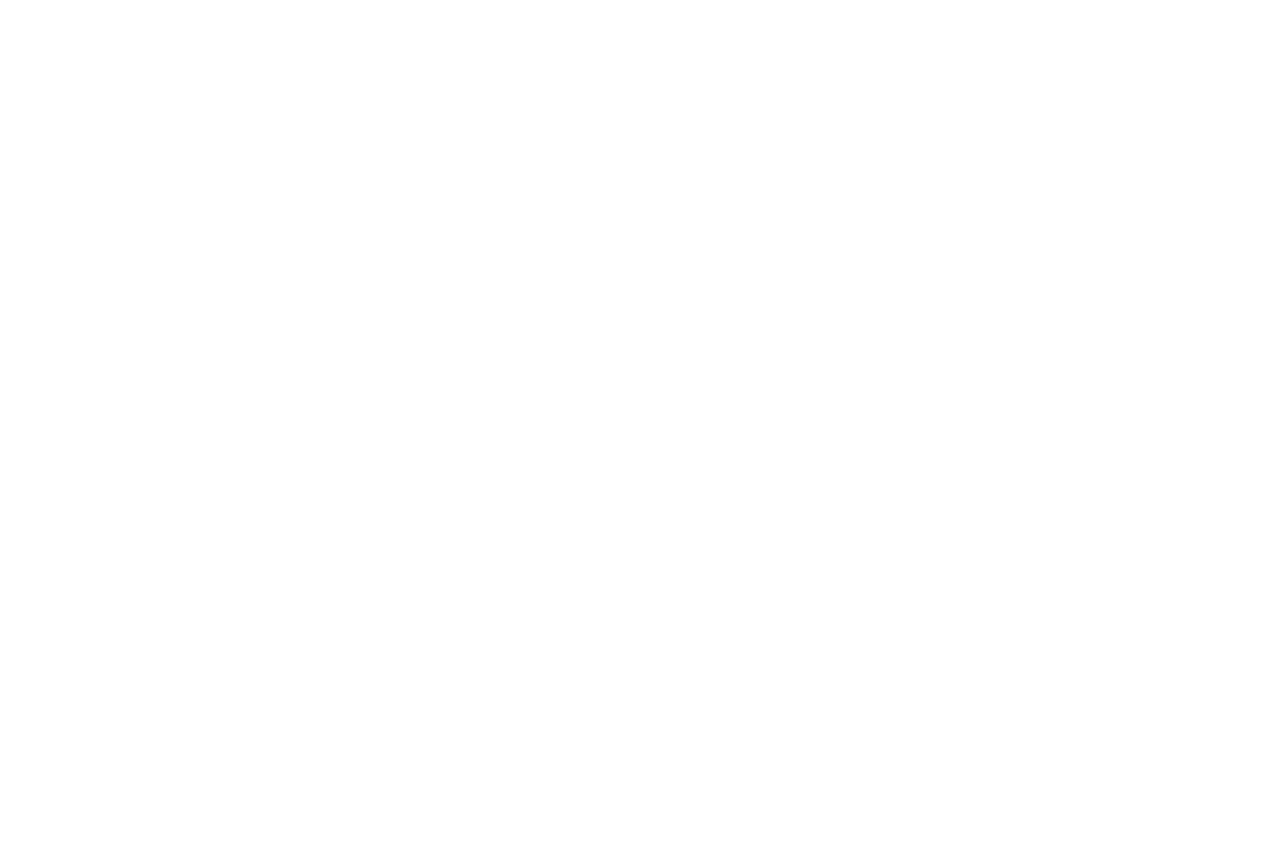
Коллектив театра больше Национального симфонического оркестра раз в десять. Там у меня в подчинении было 80 человек, здесь около 700. Дирижёром я был сторонником дисциплины и остаюсь им сейчас. Театр начинается с вешалки, в нашем случае вешалка — это дисциплина. Всё должно быть чётко, вовремя и качественно.
Своего кабинета с личным секретарём у меня никогда не было. Работать в такой обстановке непривычно. Я даже не сажусь в директорское кресло, потому что дал себе слово, что сделаю это только тогда, когда добьюсь первых результатов. Ещё я очень люблю общаться с людьми на равных, поэтому на встречах предпочитаю сидеть не во главе стола, а напротив собеседника, как сейчас с вами. В кабинете ничего не менял, только попросил большую доску, на которой я прописываю задачи и делаю свои вычисления по тому, как оптимизировать процессы в театре.
Нас ждут изменения везде. Например, мы вводим дресс-код. Театр — это не то место, куда можно прийти в футболке и шортах. Мы не будем пускать на спектакли с маленькими детьми, грудничками. В зал больше нельзя будет зайти с едой. Таких вещей просто не должно быть. Это всё, что могу сказать. Красивые слова не в моём стиле. Лучше меньше говорить, больше делать.
Своего кабинета с личным секретарём у меня никогда не было. Работать в такой обстановке непривычно. Я даже не сажусь в директорское кресло, потому что дал себе слово, что сделаю это только тогда, когда добьюсь первых результатов. Ещё я очень люблю общаться с людьми на равных, поэтому на встречах предпочитаю сидеть не во главе стола, а напротив собеседника, как сейчас с вами. В кабинете ничего не менял, только попросил большую доску, на которой я прописываю задачи и делаю свои вычисления по тому, как оптимизировать процессы в театре.
Нас ждут изменения везде. Например, мы вводим дресс-код. Театр — это не то место, куда можно прийти в футболке и шортах. Мы не будем пускать на спектакли с маленькими детьми, грудничками. В зал больше нельзя будет зайти с едой. Таких вещей просто не должно быть. Это всё, что могу сказать. Красивые слова не в моём стиле. Лучше меньше говорить, больше делать.
Рабочий график у меня сейчас ненормированный. Начинаю с 09:00-09:30, заканчиваю в 00:00 или 01:00. Много хожу по театру, делаю обходы каждый день. Каждый день принимаю очень много людей, всё время решаем какие-то вопросы. У меня свой подход: слушаю каждого, и только после того, как выслушаю все стороны, принимаю решение.
За час до вашего прихода провёл встречу с китайской делегацией. В течение августа принимал в театре послов Италии, Грузии, представителя посольства Франции. Мы разрабатываем стратегии сотрудничества и хотим, чтобы реализация совместных проектов проходила в Узбекистане на мировом уровне.
За час до вашего прихода провёл встречу с китайской делегацией. В течение августа принимал в театре послов Италии, Грузии, представителя посольства Франции. Мы разрабатываем стратегии сотрудничества и хотим, чтобы реализация совместных проектов проходила в Узбекистане на мировом уровне.
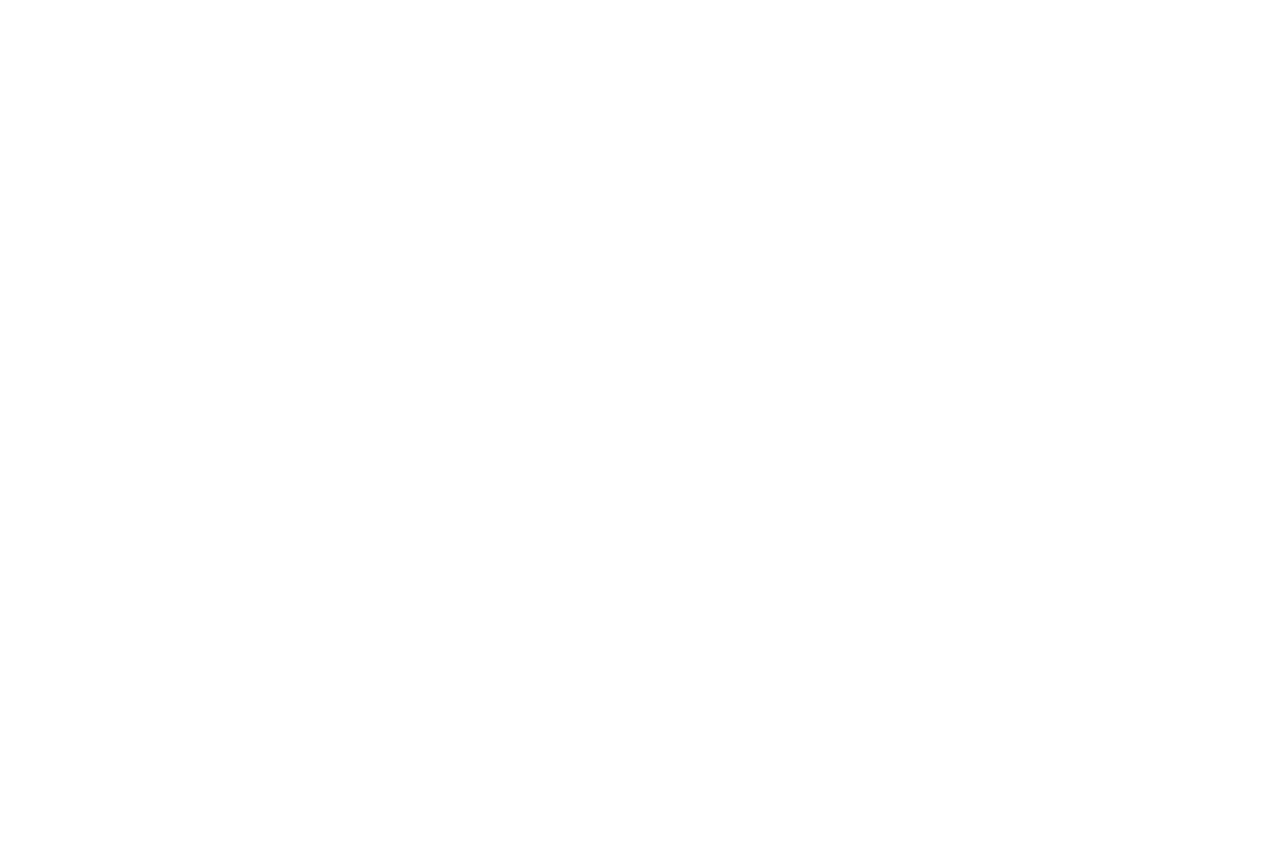
Через две недели открывается 96-й театральный сезон. Мы готовим open air концерт «Ad astra» («К звёздам»). Он состоится 6 сентября. Масштабный, непохожий на все предыдущие — это могу гарантировать.
То, что я стал директором, не значит, что в программе появится больше концертов симфонической музыки. Они были и останутся в виде концертного исполнения какой-либо оперы или вечеров, на которых прозвучат лучшие оперные арии, как, например, на концерте «Три тенора» 14 сентября.
Осенью представим премьеру оперы «Дон Жуан». Это будет наша первая попытка сделать оперу технологичной, как «Сказки Гофмана» в постановке итальянского режиссёра Стефано Поды, которую зрители могли видеть весной в рамках Международного фестиваля оперы и балета.
То, что я стал директором, не значит, что в программе появится больше концертов симфонической музыки. Они были и останутся в виде концертного исполнения какой-либо оперы или вечеров, на которых прозвучат лучшие оперные арии, как, например, на концерте «Три тенора» 14 сентября.
Осенью представим премьеру оперы «Дон Жуан». Это будет наша первая попытка сделать оперу технологичной, как «Сказки Гофмана» в постановке итальянского режиссёра Стефано Поды, которую зрители могли видеть весной в рамках Международного фестиваля оперы и балета.
Об уличных музыкантах
Театральная площадь и прилегающий к ней подземный переход — повод поговорить об уличных музыкантах. В последние годы отношение городских властей и правоохранительных органов к ним нейтральное. Я это приветствую, но каждый раз, когда выхожу из театра после «Травиаты» или «Жизель» и вместо относительной тишины вечернего города слышу, как стоящий под фонарём паренёк с колонкой в ногах бубнит в микрофон «Группу крови» Виктора Цоя или «Мою игру» Басты, задумываюсь об уместности уличного творчества — диссонанс очень сильный, как если бы на красивом кабриолете врезалась в бетонный разделитель.
Считаю, что искусство, творчество нельзя ограничивать. Просто представьте, что из нескольких вариантов того, как провести вечер, человек выбирает не безделье, не преступление, а музыку. Может быть, здесь, у театра, он пытается доказать всему миру, что он тоже имеет право выйти к людям и петь Цоя. Вдруг завтра он станет великим, как Димаш? Понятно, что из тысячи или миллиона только один или два музыканта в итоге становятся теми, кем становятся, но это ведь тоже шанс. Правильно ли осуждать человека, препятствовать, если такая вероятность есть? При этом я согласен, что у театральной площади с уникальным фонтаном и архитектурой 40-х могла бы сохраняться своя аура.
Могу сам себе противоречить и, скорее всего, буду это делать, потому что вопрос сложный, какой-то неподвластный для понимания. К уличным музыкантам отношусь без восторга, но знаю, что они должны быть. Они придают городу шарм, уют. Музыканты на улицах бывают разные. Впечатление, которое они производят, зависит от того, работает ли человек над собой, как он поёт: красиво, от души или как придётся. Вообще считаю, что если человек любит музыку, ему надо заниматься этим профессионально. С другой стороны, очень много крутых звёзд вышло с улицы.
Могу сам себе противоречить и, скорее всего, буду это делать, потому что вопрос сложный, какой-то неподвластный для понимания. К уличным музыкантам отношусь без восторга, но знаю, что они должны быть. Они придают городу шарм, уют. Музыканты на улицах бывают разные. Впечатление, которое они производят, зависит от того, работает ли человек над собой, как он поёт: красиво, от души или как придётся. Вообще считаю, что если человек любит музыку, ему надо заниматься этим профессионально. С другой стороны, очень много крутых звёзд вышло с улицы.
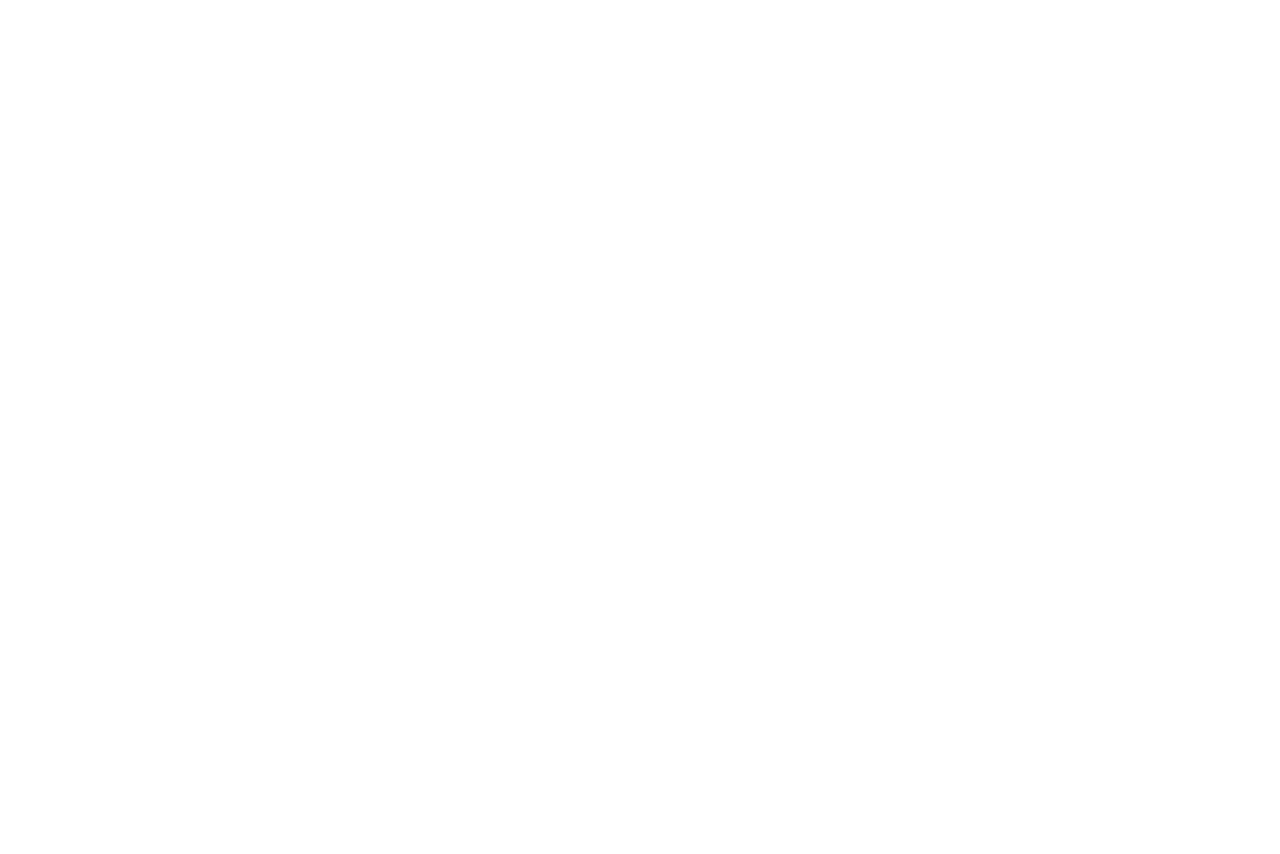
Я на улице не играл. В глубоком юношестве в составе молодёжного оркестра был на гастролях в Европе и видел, как ребята спокойно выходили в город, выступали, подрабатывали немного. Не знаю, как к этому относиться, если честно. С одной стороны, ты же музыкант, высокая культура, голубая кровь. С другой стороны, молодость, ветер в голове. У меня было желание просто поиграть, но не было желания заработать. Почему? Просто потому что искусство должно быть очень доступным — и в то же время недоступным. Это парадокс. Если искусство доступно, оно популярно, а если недоступно, то оно театральное. К тому же нужно учитывать, что играть на улице во времена моей молодости было не совсем престижно и безопасно — уличным музыкантам вообще не разрешалось выступать. Может, это сыграло свою роль в том, что я так и не вышел.
О том, почему в театрах мало зрителей
Люди, особенно молодые, не часто ходят в театры. Корни этой проблемы вижу в том, что у нас недостаточно развит театральный менеджмент. Почему не раскручиваются постановки тоже понимаю. Молодёжи хочется современных постановок, а не спектаклей в устаревших декорациях. Нужны технологические процессы. Например, если по задумке режиссёра в спектакле идёт снег, мы должны сделать снег. Не бумагу мелко нарезать или пенопласт, а запустить снег-машину, которая стоит, кстати, относительно недорого. Голограммы, 3D-мэппинг — всё это можно и нужно использовать.
Технологии стоят денег. Мы будем искать на них средства. Нужно развивать меценатство. Если бизнес не до конца понимает ценность театрального искусства, значит, необходимо её показать. Это моя задача, как директора, и моей команды. Надо работать. Дорогу осилит кто? Идущий.
Технологии стоят денег. Мы будем искать на них средства. Нужно развивать меценатство. Если бизнес не до конца понимает ценность театрального искусства, значит, необходимо её показать. Это моя задача, как директора, и моей команды. Надо работать. Дорогу осилит кто? Идущий.
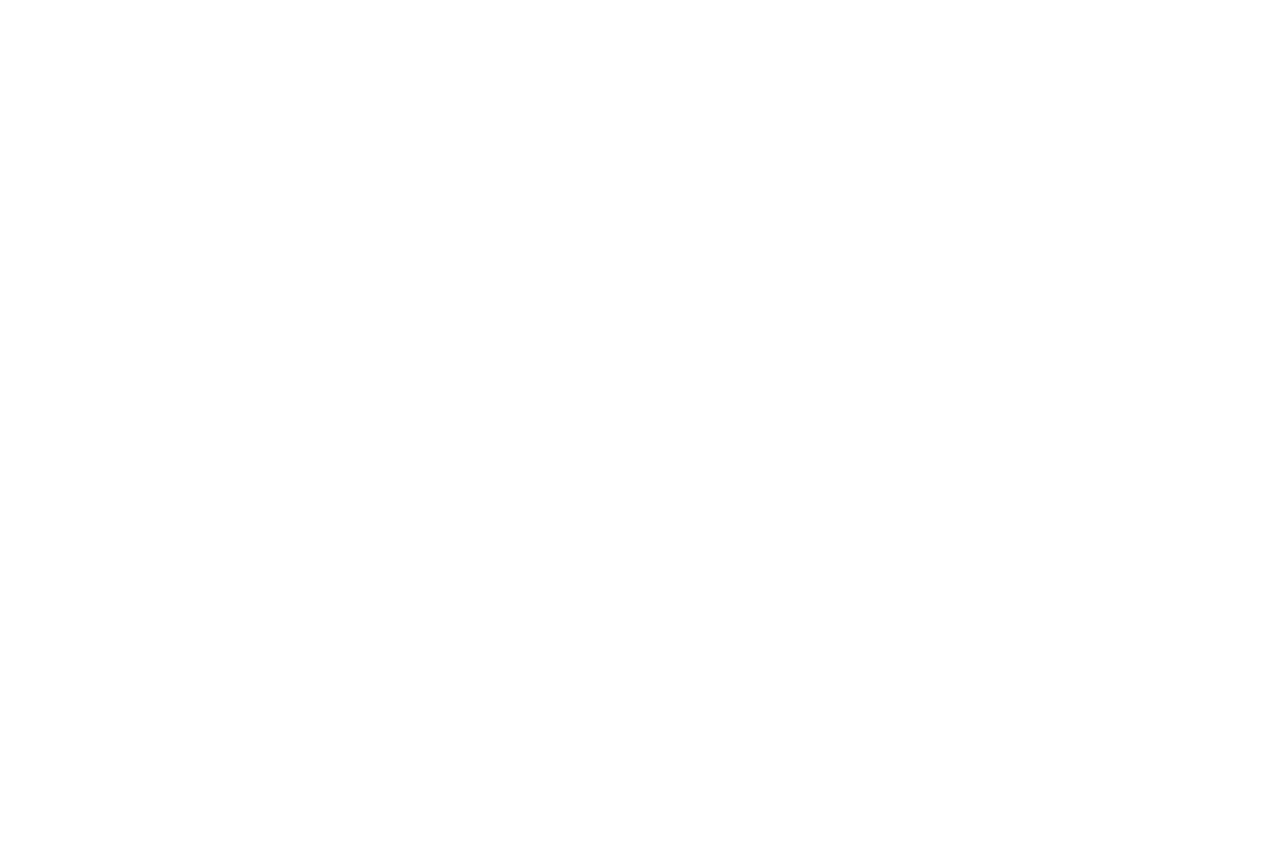
Во времена Моцарта, Гайдна существовали шоу, но почему-то сейчас многие думают, что это плохое слово. Представьте реакцию зрителей, если героиня какой-нибудь оперы, допустим «Мадам Баттерфляй», будет ходить по воде. Как это может повлиять на художественную ценность спектакля, нивелировать просветительские функции театра? Сюжет-то тот же. Прогресс не остановить. Сопротивляться ему бессмысленно. Мы не станем держаться за декорации 50-60-х годов, потому что так было десятилетиями, все к этому привыкли, считают каноном. Для старшего поколения это, может быть, оправдание, а для меня преступление.
О популяризации симфонической музыки
Хотите, чтобы люди полюбили симфоническую музыку? Сделайте так, чтобы они её слушали. Начинать нужно с детского сада. Ещё необходимо учитывать наше музыкальное наследие. У нас есть такие прекрасные направления, как маком, бахши. Они очень сильно недооценены, и я не понимаю, почему. Это классика мирового масштаба.
Симфоническая и национальная музыка в совокупности дадут мощный толчок развитию культурной жизни столицы, страны; нация оздоровится во всех смыслах: как морально, так и физически.
Всё, что нужно сделать — просто ставить музыку в детских садах. Министерство дошкольного образования может связаться с Минкультом и совместно разработать план, в котором будут учитываться особенности детского восприятия. Даже если этот двух-трёхчасовой музыкальный сет будет идти фоном, поверьте, за четыре года нахождения ребёнка в детском саду, это принесёт результаты. «Синий трактор» же дети как-то выучивают: «По полям, по полям, Синий трактор едет к нам». А это классическая, национальная музыка. Когда ребёнок, который на ней вырос, придёт в театр и услышит знакомую мелодию, ему уже от узнавания станет интересно.
Симфоническая и национальная музыка в совокупности дадут мощный толчок развитию культурной жизни столицы, страны; нация оздоровится во всех смыслах: как морально, так и физически.
Всё, что нужно сделать — просто ставить музыку в детских садах. Министерство дошкольного образования может связаться с Минкультом и совместно разработать план, в котором будут учитываться особенности детского восприятия. Даже если этот двух-трёхчасовой музыкальный сет будет идти фоном, поверьте, за четыре года нахождения ребёнка в детском саду, это принесёт результаты. «Синий трактор» же дети как-то выучивают: «По полям, по полям, Синий трактор едет к нам». А это классическая, национальная музыка. Когда ребёнок, который на ней вырос, придёт в театр и услышит знакомую мелодию, ему уже от узнавания станет интересно.
«Симфорок» никогда не был проектом для популяризации симфонической музыки. Он был призван просто обратить внимание людей на неё и на Национальный симфонический оркестр. И это сработало! До проекта мало кто знал, что есть такой коллектив, что он чем-то занимается, потому что у нас никто не думает о симфонической музыке в целом. Зато у всех на устах эстрадная коллаборация; все обсуждают, что дирижёр вышел на сцену в косухе. Думаете, мне это нравится? Нет. Просто я — артист, и это моя работа.
9 октября пройдёт последний «Симфорок» с моим участием. Будем прощаться и с проектом, и с оркестром, потому что теперь я всецело принадлежу театру, и у меня, как директора, другие задачи.
9 октября пройдёт последний «Симфорок» с моим участием. Будем прощаться и с проектом, и с оркестром, потому что теперь я всецело принадлежу театру, и у меня, как директора, другие задачи.
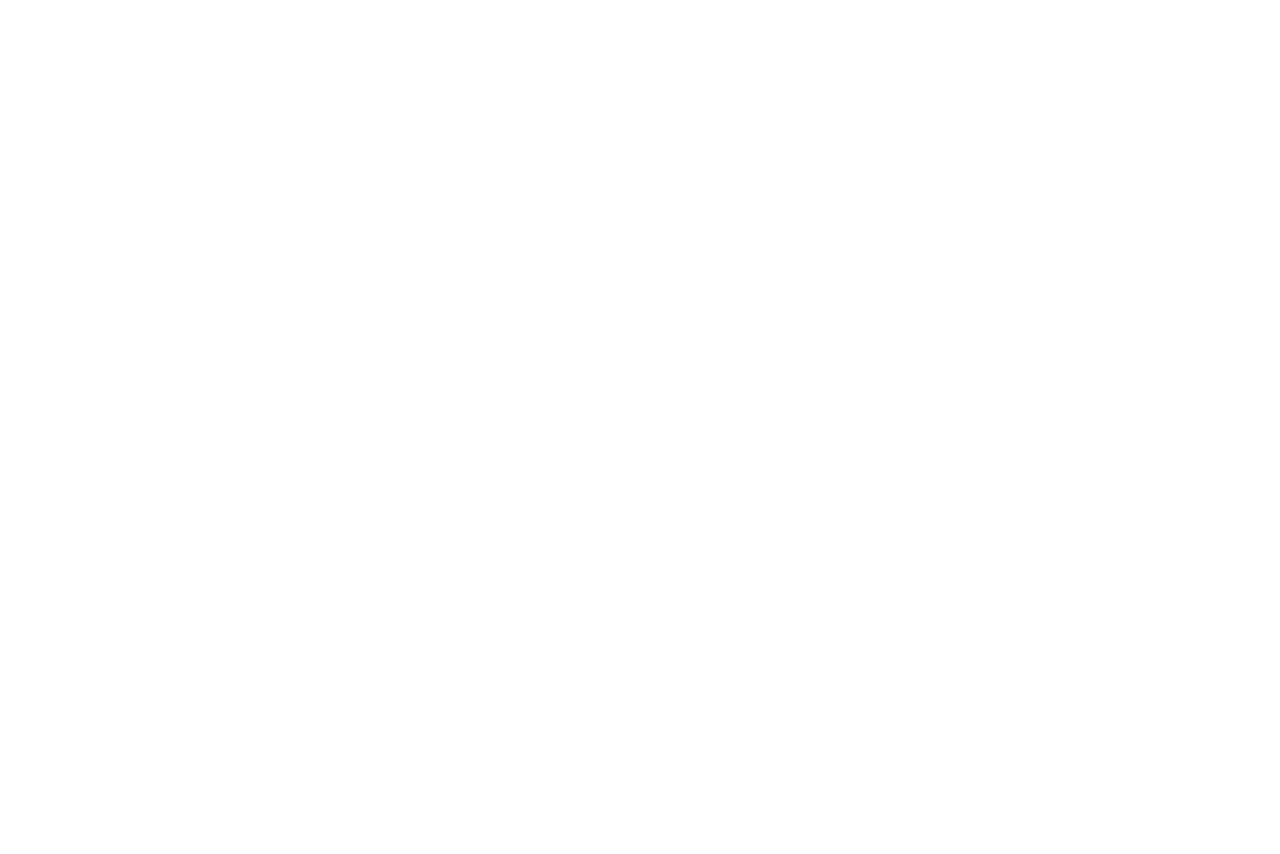
О воспитании детей
В какой-то статье про меня однажды написали, что я в детстве стучал ложками по тарелкам и кастрюлям — так хотел стать барабанщиком. Такого никогда не было. Я не мечтал и не планировал стать музыкантом, ни по кому не фанател. Просто так сложилось, что однажды я пришёл в музыкальную школу. Возможно, решил побаловаться. О том, что музыкальную карьеру надо заканчивать, задумался ещё во время учёбы — до 9 класса мне в школе не нравилось, потом что-то произошло, и я резко увлёкся.
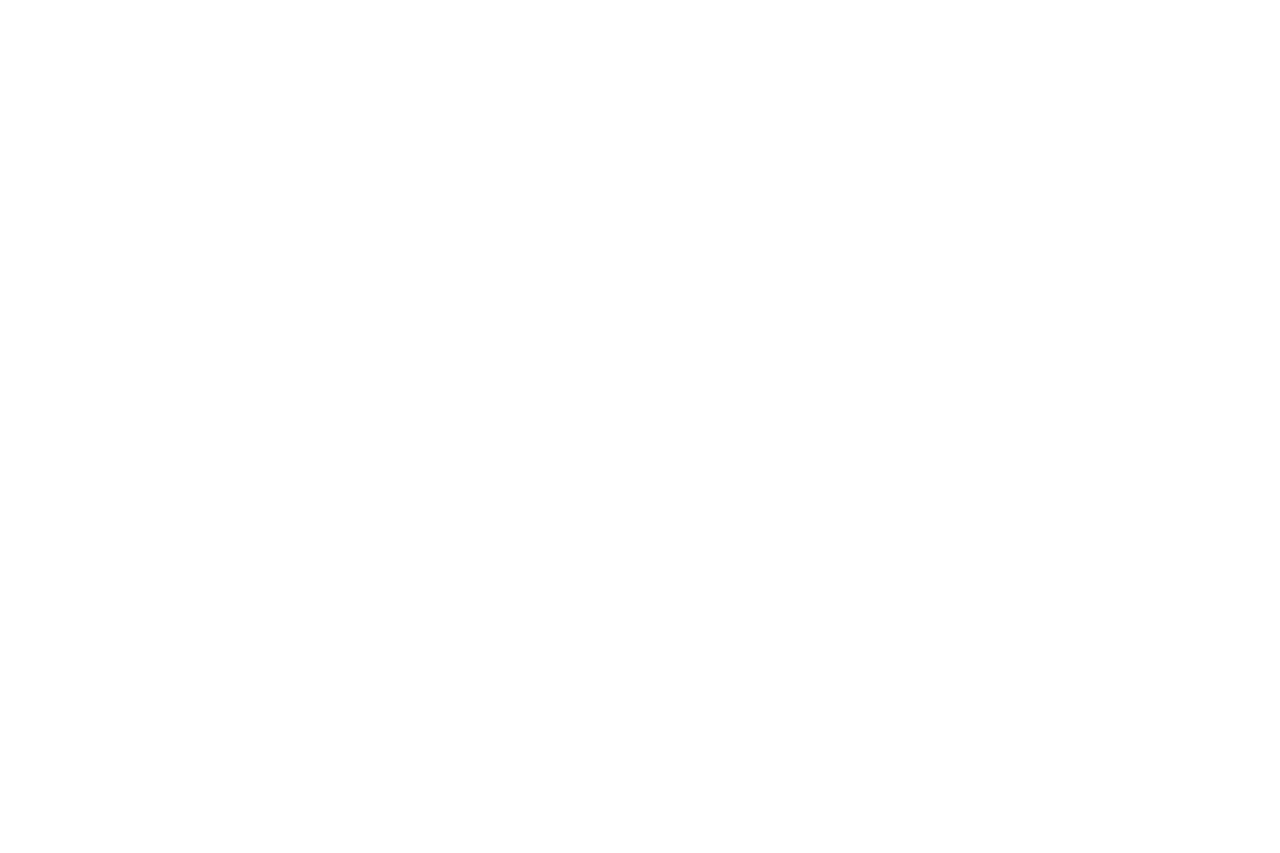
Учился я в Республиканской школе-интернате музыкальных воспитанников имени генерала Петрова, история которой берёт начало в 1944 году. Она специализировалась на подготовке музыкантов для духовых оркестров, в первую очередь, военных. Обучались там только мальчики. После развала Союза школа какое-то время работала, потом на её базе создали Республиканский специализированный академический лицей музыки и искусств, а сейчас она преобразована в Военно-музыкальный академический лицей Национальной гвардии.
Горжусь тем, что получил образование именно там. Я застал педагогов советской закалки, которые поражали своей преданностью профессии и фанатизмом. Эти люди ходили на работу не по инерции, а потому что им нужно было воспитать новое поколение людей, которые понимали бы, что от них многое зависит. У своих педагогов по сольфеджио, которое не любил, я научился дисциплине и знаю, что можно не обладать музыкальным слухом, но быть дисциплинированным, и тогда у тебя всё получится.
Горжусь тем, что получил образование именно там. Я застал педагогов советской закалки, которые поражали своей преданностью профессии и фанатизмом. Эти люди ходили на работу не по инерции, а потому что им нужно было воспитать новое поколение людей, которые понимали бы, что от них многое зависит. У своих педагогов по сольфеджио, которое не любил, я научился дисциплине и знаю, что можно не обладать музыкальным слухом, но быть дисциплинированным, и тогда у тебя всё получится.
Моя 11-летняя дочь тоже ходит в музыкальную школу, но музыкантом она не будет. Ей это не надо. Мы отдали её, чтобы она имела представление о том, что такое музыка; занятия развивают разные формы и виды мышления. Мой 5-летний сын не любит классическую музыку, зато у него есть склонность к иностранным языкам, он уже выучил несколько алфавитов. Многие почему-то считают: раз родители музыканты, то и дети должны стать музыкантами. Это не так. Если упорствовать, то можно, наоборот, оттолкнуть от музыки.
Родители несут ответственность за своих детей, их воспитание. Мне очень нравится корейский метод: до пяти лет ребёнок бог, после пяти — раб. У детей должно быть детство. Когда оно заканчивается, наступает период обучения. Родители дают ребёнку хорошее образование, водят по спортивным секциям, кружкам, театрам, но не на взрослые спектакли, а на детские. После 18 детей нужно просто отпускать, чтобы они сами принимали решения и жили своей жизнью.
Родители несут ответственность за своих детей, их воспитание. Мне очень нравится корейский метод: до пяти лет ребёнок бог, после пяти — раб. У детей должно быть детство. Когда оно заканчивается, наступает период обучения. Родители дают ребёнку хорошее образование, водят по спортивным секциям, кружкам, театрам, но не на взрослые спектакли, а на детские. После 18 детей нужно просто отпускать, чтобы они сами принимали решения и жили своей жизнью.
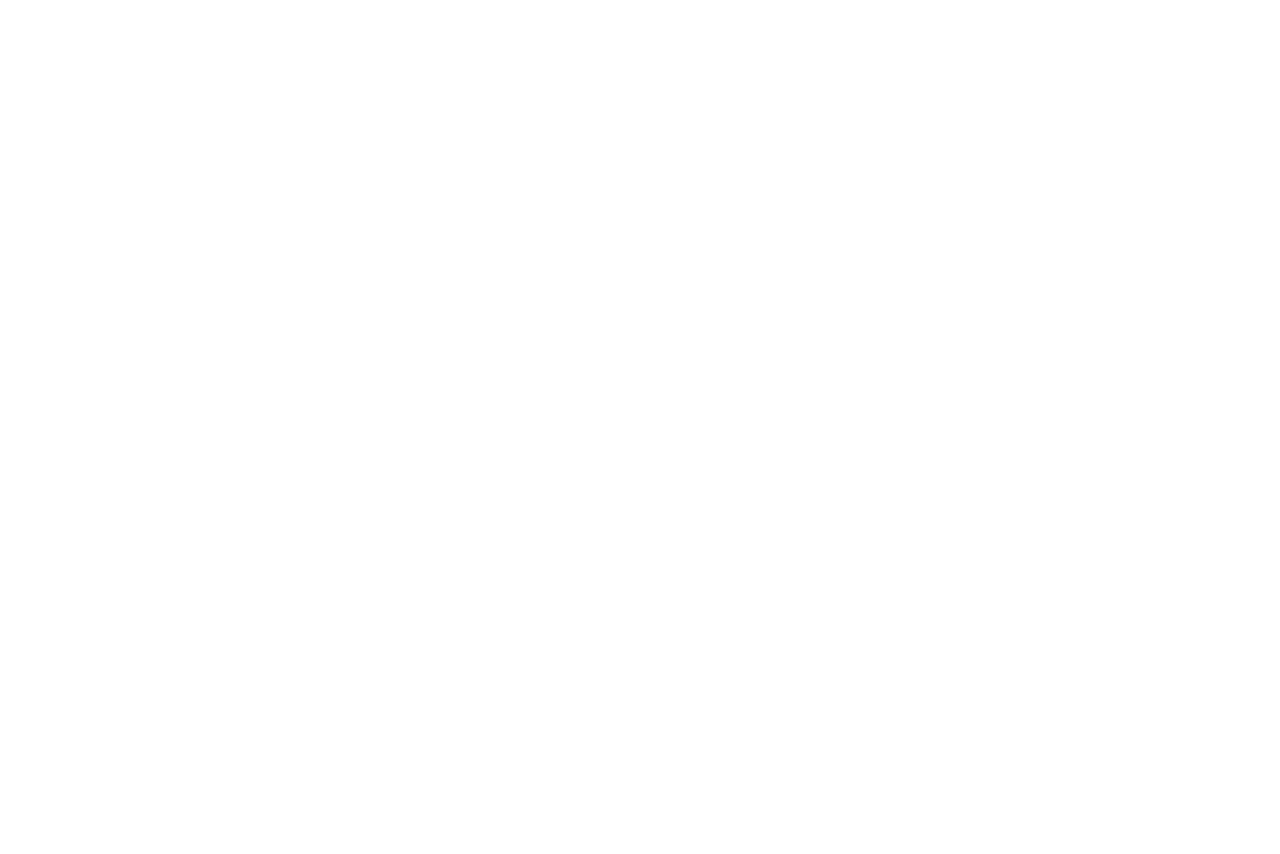
О трамваях, мандаринах на праздник и детстве в 90-е
Я родился в Ташкенте. Помню его трамваи и очень по ним скучаю. На массиве «40 лет Победы», там, где сейчас проходит надземное метро, раньше ходил трамвай, на который я садился и ехал в консерваторию. Он часто бывал переполненный, и тогда приходилось пользоваться автобусами: «Икарусами», львовскими. Помню эти сумасшедшие переключения передач, двери, которые то не открывались, то не закрывались.
Помню 90-е и как всем было нелегко. Сейчас смотрю на детей — в супермаркетах для них есть всё, а для нас «Сникерсы», «Марсы» были чуть ли не событием года. Мандарины, которые мы ждали, потому что покупали их только к празднику, лежат на полках и зимой, и летом: иранские, турецкие, китайские. Вспоминаю это и чувствую, что сам превращаюсь в «бабушку», которая живёт советским прошлым. На что вы меня толкаете? (смеётся)
Помню 90-е и как всем было нелегко. Сейчас смотрю на детей — в супермаркетах для них есть всё, а для нас «Сникерсы», «Марсы» были чуть ли не событием года. Мандарины, которые мы ждали, потому что покупали их только к празднику, лежат на полках и зимой, и летом: иранские, турецкие, китайские. Вспоминаю это и чувствую, что сам превращаюсь в «бабушку», которая живёт советским прошлым. На что вы меня толкаете? (смеётся)
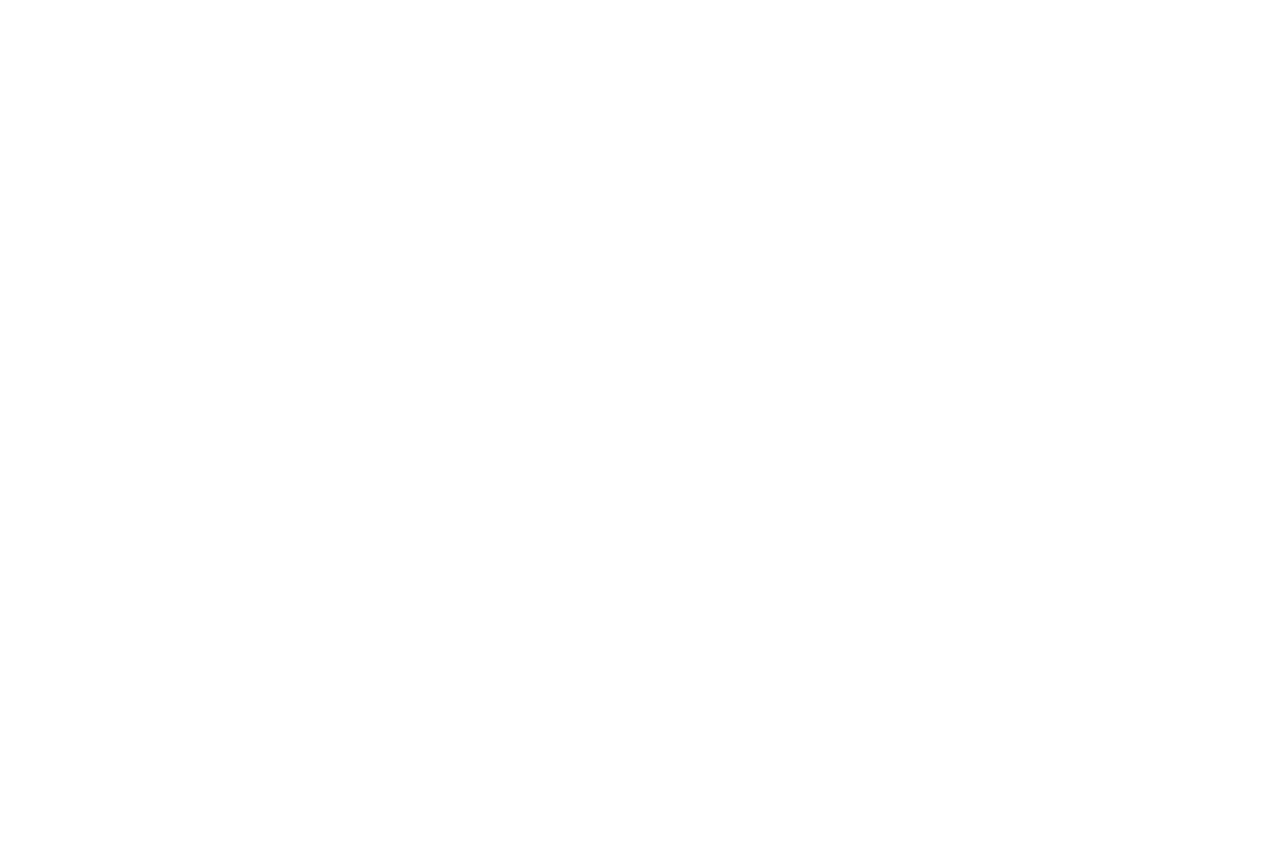
Всю жизнь прожил на «40 лет Победы». Никогда не переезжал. Среди классных событий, которые произошли на районе за это время, могу выделить появление «Корзинки», строительство метро и то, что дороги заасфальтировали. Ещё в этом году в нашем подъезде сделали пластиковые окна. Я ждал их почти 30 лет.
Не хватает району детских площадок. К сожалению, их бетонируют под парковки. Хотя я сам иногда ночью сталкиваюсь с проблемой, что негде оставить машину, считаю, что решать её нужно не таким образом. Мне кажется, что дети начинают страдать всякой ерундой и сворачивают не туда, потому что у них нет детских площадок. Им нечем себя занять. Я помню, что ходил на авиамоделирование в школу №255 возле моего дома, рисование, и это было бесплатным. Сейчас за всё нужно платить.
Не хватает району детских площадок. К сожалению, их бетонируют под парковки. Хотя я сам иногда ночью сталкиваюсь с проблемой, что негде оставить машину, считаю, что решать её нужно не таким образом. Мне кажется, что дети начинают страдать всякой ерундой и сворачивают не туда, потому что у них нет детских площадок. Им нечем себя занять. Я помню, что ходил на авиамоделирование в школу №255 возле моего дома, рисование, и это было бесплатным. Сейчас за всё нужно платить.
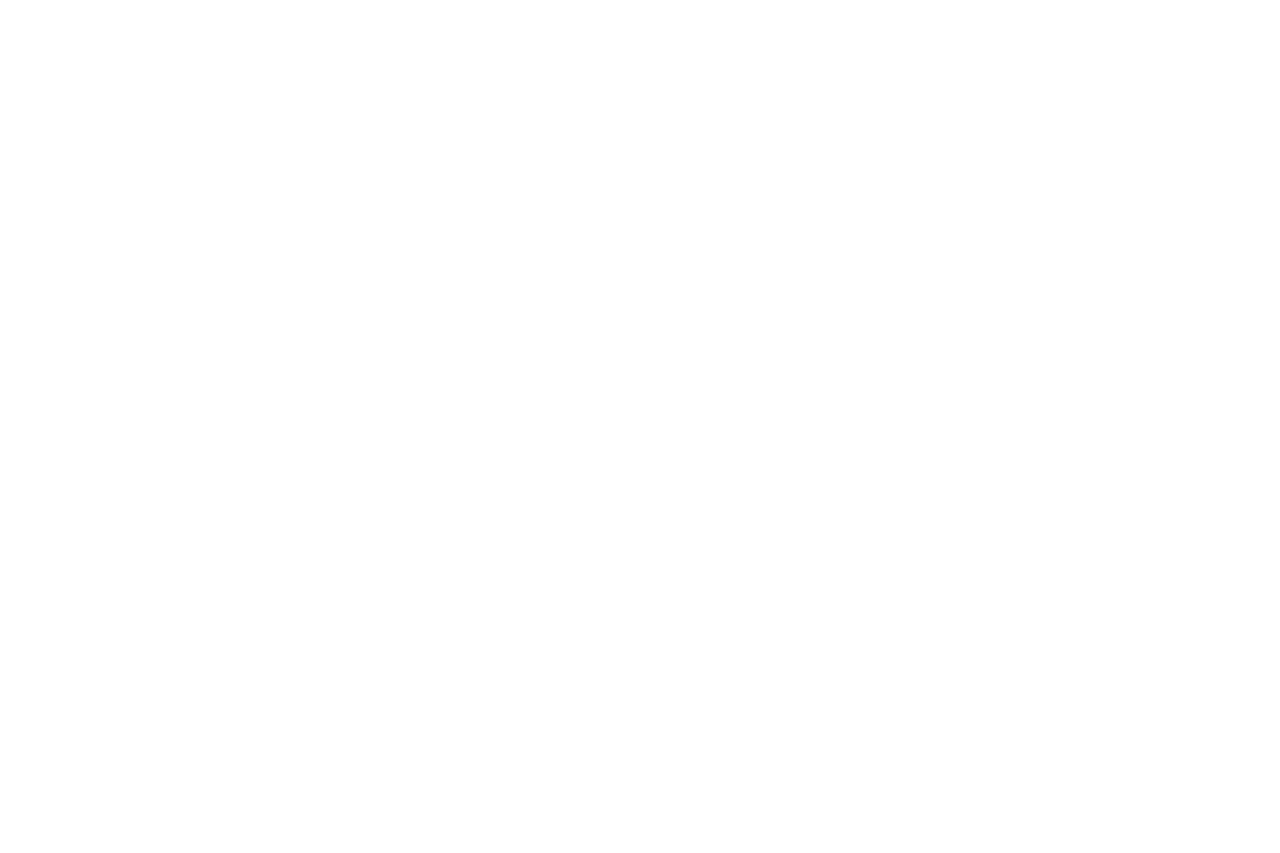
У нас была своя тусовка во дворе. Мы играли в «Генерала» — бросали в кирпич палку или камни. Любили «Ножички» — опасная игра. Нужно было нарисовать на земле круг, разделить его, как пирог, на количество участников и по очереди бросать ножичек — на чей сектор попал, ту «землю» и забираешь. Возможно, нынешние застройщики тоже в эти «Ножички» играли.
Другой дворовой забавой было воровать зелёный урюк, делать «вишнёвку»: находишь какую-то бутылку на улице, кое-как её моешь, заталкиваешь внутрь вишню, мнёшь палкой и эту кислятину пьёшь — не знаешь зачем, но счастливый. Воспоминание классное, только умом сейчас понимаешь, что это же дизентерия! Я вообще удивляюсь, как мы, дети 90-х, выжили. По всем параметрам этого не должно было случиться.
Другой дворовой забавой было воровать зелёный урюк, делать «вишнёвку»: находишь какую-то бутылку на улице, кое-как её моешь, заталкиваешь внутрь вишню, мнёшь палкой и эту кислятину пьёшь — не знаешь зачем, но счастливый. Воспоминание классное, только умом сейчас понимаешь, что это же дизентерия! Я вообще удивляюсь, как мы, дети 90-х, выжили. По всем параметрам этого не должно было случиться.
О настоящем и будущем Ташкента
Я люблю Ташкент за то, кем я стал. Здесь я родился, получил образование. Меня беспокоит, что город теряет свою зелень. Каждый раз с болью в сердце читаю, что где-то вырубили чинару, где-то — дуб. Мне кажется, что душа Ташкента заключается именно в его деревьях. В силу разных факторов город не должен был стать таким зелёным, но это случилось вопреки всему и благодаря труду очень многих людей. Каждое срубленное дерево для меня как предательство.
У меня есть личный автомобиль, но я, скорее, больше пешеход. На дорогах не чувствую себя в безопасности. Мне кажется, исправить ситуацию довольно просто — нужно приподнять пешеходные переходы. Наезды на пешеходов прекратятся, потому что машины будут вынуждены сбрасывать скорость. Это очень простой способ. Почему это не делается, я не знаю. Придумываются какие-то объезды, развязки. А можно отправить людей, ответственных за дороги, светофоры, в Норвегию или Финляндию, где самый низкий уровень смертности от ДТП. Пусть поживут там месяц, вернутся с уже готовыми решениями.
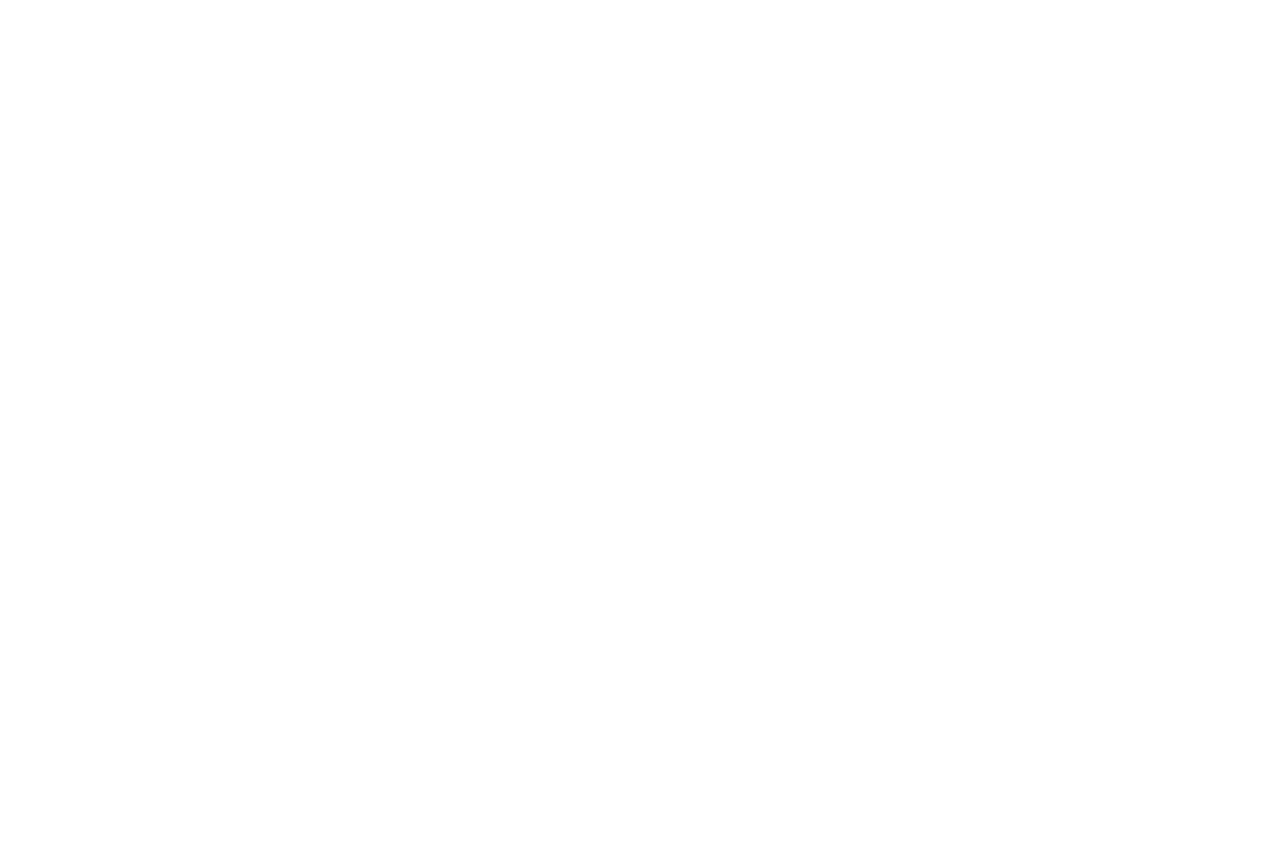
Люблю прогулки. Иногда, чтобы проветрить голову, выхожу на улицу и наматываю круги вокруг театра. Гуляю в тишине. Прозвучит жёстко, но я не люблю слушать музыку. Её в моей жизни слишком много. Сидя в директорской, я слышу, как репетирует оркестр. Делая обход, слышу, как репетируют вокалисты. Готовясь к концертам, я изучаю музыку и тоже её постоянно слушаю. В какой-то момент нужно просто отключиться, иначе слух замыливается, и ты перестаёшь слышать тонкости.
Ташкент будущего в моём представлении — это город, в котором культура остаётся культурой. Для меня важно, чтобы люди ходили на концерты симфонической музыки и в театры. В моём идеальном Ташкенте театров много, и среди них нет ни одного, существующего для галочки.
Ташкент будущего в моём представлении — это город, в котором культура остаётся культурой. Для меня важно, чтобы люди ходили на концерты симфонической музыки и в театры. В моём идеальном Ташкенте театров много, и среди них нет ни одного, существующего для галочки.
Алибек Кабдурахманов рекомендует гулять
Алибек Кабдурахманов рекомендует послушать
Текст: Виктория Абдурахимова.
Авторы фотографий: Абдумавлон Мадмусаев, Евгений Сорочин / Gazeta.
Все права на текст и графические материалы принадлежат изданию Gazeta. С условиями использования материалов, размещённых на сайте интернет-издания Gazeta, можно ознакомиться по ссылке.
Знаете что-то интересное и хотите поделиться этим с миром? Пришлите историю на sp@gazeta.uz




